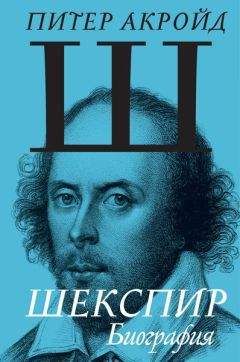Вид Нью-Йорка с палубы парохода вызвал у меня отвращение. Город напомнил мне огромный лондонский магазин «Суон энд Эдгар», в котором шла непрерывная распродажа. Едва я сошел на берег, меня окружила толпа журналистов. «Это он! – закричали они. – Баффало Билл!» От предвкушения успеха у меня закружилась голова – это потом мне стало ясно, что в Нью-Йорке предвкушение может длиться сколь угодно долго. Присмотревшись пристальнее, я понял, что жители его страдают заболеванием, которое Ломброзо назвал бы болезнью души, – это атрофия воображения, и заражаются ею от диванов, набитых конским волосом, и чугунных кухонных плит. Но если Нью-Йорк показывает Америку с самой примитивной стороны, то истинная ее цивилизация открылась мне в глуши: в городках рудокопов на Западе и поселках, затерянных на огромных равнинах, рождаются совершенно новые, современные формы жизни. Свободные от лицемерия и рабского подражания Европе, их жители станут подлинными кузнецами новой эпохи. Безыскусность, всегда восхищавшую меня в людях, американцы возвели в философию, которая по методу своему стоит локковской, а по пафосу правоты – творений Руссо.
Переезжая с места на место и выступая с лекциями, я по ходу дела открыл для себя секрет успеха: публике должно казаться, что она подслушивает твою беседу с самим собой. Я произнес слова о Прекрасном Жилище – и американский домашний быт изменился за одну ночь; я провозгласил «эстетическое движение в одежде» – и день спустя на улицах появились существа, одетые в хитоны и пеплосы. Женщины меня боготворили, мужчины толковал и обо мне между собой. Во мне находили сходство с Джордж Элиот, хоть я и не понял в чем. Начисто лишенные традиций, американцы готовы отнестись с почтением к любому, кто объяснит им, куда идти и что делать. Мужчины будут копаться в ямах с падалью, если им скажут, что там спрятано золото, а женщины будут аплодировать их отваге. Я, впрочем, предлагал им Рёскина и бело-голубой фарфор; они принимали все это с благодарностью и давали мне взамен занятные зеленые бумажки. Я превратился в коммерческое предприятие. Успех стал для меня настоящим откровением: впервые я понял, что могу зарабатывать немалые деньги, просто будучи самим собой. И с другим явлением, своеобразным, но теперь мне привычным, столкнулся я тогда; заявив о своей философии во всеуслышание, я перестал быть ее приверженцем. Придав своим мыслям и пристрастиям законченную форму, я начал ими тяготиться. Едва мне поверили люди, сам я в себе разуверился.
Я хорошо помню путешествие с труппой из Омахи в Сан-Франциско: Бог создал мир за меньшее число дней, чем потребовалось нам, чтобы пересечь Америку. Наш поезд тащился так медленно, что парни, ехавшие в третьем классе, развлекались стрельбой из пистолетов по маленьким существам, обитавшим в прериях. Люди это были или животные – не знаю; думаю, они и сами это нетвердо знали. В пути я читал французские романы – настоящая современная литература хороша тем, что на каждой странице находишь свой портрет, – но в жаркие послеполуденные часы засыпал; теперь мне странно, что когда-то я мог спать как сурок.
Проснувшись однажды вечером, я вышел из купе, чтобы съесть сандвич – странный предмет свинцового цвета, – и увидел Джона Хаусона, который в комической опере играл моего нелепого двойника Банторна; стоя на площадке вагона в костюме, подозрительно смахивающем на мой, он декламировал мое стихотворение. Мы как раз остановились на каком-то полустанке, и доверчивые местные жители решили, что это и есть Уайльд. Я был возмущен до глубины души.
– Хаусон! – воскликнул я, когда мы вернулись в вагон. – Вы помните, кто я такой? Я – Оскар Уайльд. Вы что, забыли, что мы едем вместе? Или вообразили, что я отстал от поезда, и решили восполнить пропажу?
– Извиняюсь, Оскар, ну никак не мог с собой совладать. Да и что тут такого: если один парень спит, а другому охота поразвлечься – это простительно, я считаю.
– Милый мой Хаусон. Вы актер. Я понимаю актеров. Я нисколько не виню вас в том, что вы забыли, кто вы такой, но зачем же входить в роль человека, который едет в том же поезде? – Для вящего эффекта я хлопнул его по коленке томиком «Мадемуазель де Мопен».
– Да ну вас, Оскар, чем вы сами-то лучше? Я хоть знаю, когда играю, а когда нет.
– Не правда, я не актер. Я – это я, больше ничего.
– Как же, не актер.
– Вы слышали, что я сказал? Добавить мне нечего.
– Оскар, вы тут не один, а с труппой – мы прогорим, если я буду отказываться от лучших номеров.
– Во всяком случае, мои стихи принадлежат мне.
– Если бы так. Зачем тогда переписывать их из книг и заучивать, сидючи в одном месте?
– Бог знает о чем вы толкуете. Уж по крайней мере, я не разгуливаю в чужом наряде и не выдаю себя за другого.
– Чепуха. Вы никогда самим собой и не были.
В этот критический миг в вагон вошел железнодорожный служащий.
– Кто из вас мистер Оскар Уайльд? – спросил он.
– Вот он, – выпалили мы в один голос.
– У меня записка мистеру Уайльду от дамы.
– Отдайте ему, – сказал я. Терпеть не могу записки, полные писка.
– Вот что, Уайльд, эта дама хочет с нами встретиться – то есть с вами – в Сан-Франциско. Я отвечу?
– Напишите, что я буду занят.
– Да не будьте занудой, Оскар. Почему я не могу зайти к ней вместо вас?
– Вы и так уже зашли очень далеко, Хаусон, остановить вас мне все равно не под силу.
Нечего удивляться, что американские газеты были полны рассказов о моих амурных похождениях: это все Хаусон. Когда репортеры заарканили его в нью-йоркском игорном притоне, он тоже прикрылся моим именем. О том, что я будто бы посещаю такие места, прослышали даже в Англии. Я не пытался опровергать эти слухи – ведь судьбы не избежишь. Как Аде Менкен [47], мне волей-неволей приходилось жить той жизнью, которую сочинили для меня другие. Сформулировав свою философию как перечень принципов, я мигом к ней охладел; точно так же, когда я обнаружил, что мне подражают, я сразу понял, каким кошмаром может стать моя эстетическая оболочка, окажись я заперт внутри нее. Подражание изменяет не воплотителя, а воплощаемого.
В этой стране, где произойдут все чудеса современной эпохи, личность моя выросла необычайно. В Америке я обрел ту свободу и непринужденность поведения, которая не давалась мне в Англии. Впервые в жизни я почувствовал, что мои произведения воспринимают серьезно: если раньше я был лишь предметом презрения и пересудов, достойным внимания в той степени, в какой был знаком со знаменитостями, то теперь меня превозносили как художника. Меня беспрерывно атаковали репортеры, мои стихи печатали лучшие газеты, платя по гинее за строчку. Когда я сделал это открытие, когда я понял, что благодаря искусству могу добиться человеческого признания, я ощутил себя совершенно свободным. Переживая подобное в молодости, чувствуешь себя так, словно могучий ветер несет тебя вперед, к неведомой цели; корабль покидает гавань, медленно затихают крики и напутствия на удаляющемся берегу, и остается лишь необъятная тишина моря и неба. Тогда, только тогда можешь ты придать форму образам, клубящимся в твоем воображении, и вдохнуть живую силу в трепещущие крылья духа.
И вот, придя к Уитмену, я разговаривал с ним не как ученик, а как равный – ведь только так и должны встречаться истинные художники. В просторной светлой мансарде своего филадельфийского дома он сидел как настоящий американский патриарх; в окне за его спиной виднелись стройные белые паруса судов на реке Делавэр, краски пейзажа были изысканно приглушены дымом фабричных труб. Беседа была приятной и непринужденной. Уитмен так и не побывал в Европе, благодаря чему сохранил свои безупречные манеры; но он обладал еще и проницательностью, которая позволила ему разглядеть рождающегося во мне писателя. Я объяснил ему, что приехал читать его соотечественникам лекции о Прекрасном.
– Мне кажется, Оскар, – сказал он, – что нет смысла гнаться за красотой как абстракцией, она должна просто быть в том, что ты делаешь.
– Но ведь Прекрасное существует и как идеал?
Он странно хихикнул, словно внутри у него сидел чертик, которому там было вполне уютно.
– Идеалы – это бесенята, – сказал он. – Пойдешь их искать, заведут в болото. А вот если к себе их приманишь – будут тебе верно служить.
Смысл его слов я понимаю только теперь; погоня за Красотой погубила меня. В дни моей славы я искал ее во всевозможных обличьях и в азарте охоты обрел совершенно ложное представление о ее сути. И Красота отвернулась от меня, оставив меня среди теней, во втором круге Ада, где я могу столкнуться лицом к лицу с Дидоной и Семирамидой. Вот и все об Америке; пора завтракать.
Люди страшат меня, но одиночество еще хуже. В таких отелях оно чувствуется особенно остро. За девяносто франков в месяц я живу среди беспорядка, в комнате, которая, не будь у нее высокого потолка, до отвращения напоминала бы будуар. Мебель потускнела так, что от красного дерева осталось одно воспоминание; обои – один из немногих уцелевших образчиков ancien regime [48]. Как мне не хватает уолтоновского линкруста! У меня на Тайт-стрит им были покрыты стены курительной, и мне всегда казалось, что их особенная шероховатость подстегивает воображение. Когда я писал, я гладил стену рукой и, к большому неудовольствию жены, отколупывал кусочки и клал в рот. Всю жизнь я поедаю то, что мне особенно дорого. Здесь у меня в комнате есть зеркало, но я в него не заглядываю: с ним-то ничего не случится, а вот я могу треснуть. Рядом стоят бронзовые часы с поддельными ониксами, слишком уж большие и вычурные. Они несут на себе все рубцы времени в непоколебимой торжественности: узнай они, что через час их сломают, они все равно будут тикать до конца. И друзья еще удивляются, почему я так к ним привязался!