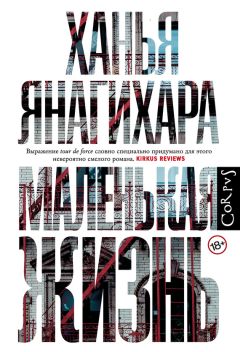— Мне этого никогда не понять, я слишком тупой, — сказал он однажды после занятия, которое показалось ему многочасовым, — под конец Виллему хотелось только одного: выскочить на улицу и долго-долго бежать, так его трясло от раздражения и досады.
Джуд опустил глаза.
— Ты не тупой, — тихо сказал он. — Просто я не очень хорошо объясняю.
Джуд ходил на семинары по высшей математике, куда попасть можно было только по приглашению, — остальные даже и не пытались понять, чем именно он там занимался.
Теперь же удивительным казалось только то, что он вообще удивился, когда три месяца спустя ему позвонила мать и сообщила, что Хемминг в реанимации, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Был конец мая, экзаменационная сессия в разгаре. «Не приезжай, — сказала она ему, приказала даже. — Не надо, Виллем». С родителями он говорил по-шведски, и только через много лет, когда шведский режиссер, у которого Виллем снимался, отметил, каким безжизненным голосом он говорит на этом языке, Виллем понял, что, сам того не замечая, в разговоре с родителями подлаживался под их тон и начинал говорить как они, сухо и безучастно.
Следующие несколько дней он ходил сам не свой, экзамены сдавал кое-как: французский, сравнительное литературоведение, якобинская драма, исландские саги, ненавистный матанализ — все смешалось в кучу. Он затеял ссору с подружкой, которая была старше его и заканчивала колледж. Она расплакалась, он знал, что виноват, и знал, что не в силах ничего исправить. Мысленно он был в Вайоминге, представлял себе аппарат, который сплевывает жизнь в легкие Хемминга. Ему ведь надо поехать домой? Он должен поехать домой. Надолго не получится: пятнадцатого июня они с Джудом съезжали из общежития на лето и перебирались в съемное жилье, им обоим удалось найти работу в городе, Джуд по будням будет работать секретарем у профессора классической филологии, а по выходным — в кондитерской, где он подрабатывал и во время учебы. Виллем будет помощником преподавателя в школе для детей-инвалидов, но перед этим все четверо собирались в Аквинну, на Мартас-Виньярд, и погостить в доме родителей Малкольма, после чего Малкольм и Джей-Би на машине возвращались в Нью-Йорк. По вечерам он звонил Хеммингу в больницу, просил родителей или медсестер поднести трубку к его уху и разговаривал с братом, хотя и понимал, что тот, скорее всего, его не слышит. Но как тут было не попытаться?
А потом, через неделю, утренний звонок от матери — Хемминг умер. Он не смог ничего сказать. Не смог спросить, почему она не сообщила ему, что дела обстоят так плохо, потому что в глубине души всегда знал: она не сообщит. Не смог пожалеть о том, что его с ними не было, потому что знал: на это она ничего не ответит. Не смог спросить, как она, потому что ни один ее ответ его не устроит. Ему хотелось наорать на родителей, ударить их, вытрясти из них хоть что-то — чтоб горе хоть немного сломило их, чтоб они хоть ненадолго утратили самообладание, чтобы хоть как угодно, но признали, что случилось нечто огромное, что со смертью Хемминга они потеряли что-то важное и нужное в жизни. И ему было наплевать, прочувствуют они это на самом деле или нет, ему нужно было, чтобы они это сказали, нужно было ощутить, что под их непроницаемым спокойствием есть хоть что-нибудь, что у них где-нибудь внутри все-таки бежит тоненький, быстрый, прохладный ручеек, полный хрупких жизней, мелкой рыбешки, травы и крохотных белых цветов, таких нежных, ломких, уязвимых, что на них нельзя взглянуть без боли.
Тогда он не сказал друзьям о Хемминге. Они поехали к Малкольму — дом стоял в красивом месте, ничего красивее Виллем и не видел никогда и уж тем более ни разу в таком месте не жил, — и по ночам, когда все засыпали в отдельных кроватях, в отдельных комнатах с отдельными ванными (такой это был большой дом), он тихонько выбирался наружу и часами бродил по дорожкам, которые паутиной окружали дом, и луна была такой огромной и яркой, словно ее сделали из какой-то замерзшей жидкости. Во время этих прогулок он изо всех сил старался ни о чем не думать. Вместо этого он сосредоточивался на том, что видел, подмечая ночью все, что ускользало от него днем: какая мягкая тут земля, почти как песок, как она вспархивает у него из-под ног крохотными струйками, как в кустах, мимо которых он проходит, бесшумно, тоненькими ленточками, мелькают корично-коричневые змеи. Он доходил до океана, и луна над ним исчезала, скрывалась в лохмотьях облаков, и несколько мгновений он не видел воды, только слышал ее, и небо от влаги делалось плотным и теплым, как будто сам воздух здесь был гуще, существеннее.
Может быть, так оно и бывает, когда умрешь, подумал он и понял, что, кажется, это не так уж и плохо, и ему стало полегче.
Он боялся, что ему трудно будет провести все лето с детьми, которые могли напомнить ему Хемминга, но оказалось, это очень хорошо и даже полезно. В его классе было семеро учеников, всем лет по восемь, все с серьезными проблемами, передвигаться самостоятельно не мог никто, но, хотя большая часть дня у него вроде бы уходила на то, чтобы научить их различать цвета и формы, на самом деле он почти все время с ними играл: читал им, возил по школьному парку, щекотал перышками. На переменах двери всех школьных кабинетов открывались, и главный двор заполнялся детьми в таких хитроумных устройствах на колесах, в креслах и колясках, что казалось, будто его заполонили механические насекомые, которые поскрипывали, жужжали и щелкали все разом. Здесь были дети в инвалидных креслах и дети на мини-мопедах, которые, подпрыгивая и постукивая, катились по плиткам с черепашьей скоростью, здесь были дети, пристегнутые к длинным, гладким доскам на колесиках, напоминавшим укороченные доски для серфинга, и дети, которые ползали по земле, подтягиваясь на обмотанных культях, и дети без каких-либо средств передвижения, которые просто сидели на коленях воспитателей, а те придерживали им головы. Такие больше всего напоминали ему о Хемминге.
Некоторые дети, из тех, что ездили на мопедах и досках с колесиками, могли говорить, и Виллем очень осторожно перебрасывался с ними большими пенопластовыми мячами и устраивал им забеги во дворе. Каждый забег начинался с того, что он бежал впереди всех детей, передвигаясь широкими, нарочито медленными скачками (но не настолько нарочитыми, чтобы это выглядело совсем уж смешно: он хотел, чтобы они думали, будто он и впрямь с ними бежит), но в какой-то момент, обычно, когда они пробегали где-то треть пути, он притворялся, будто споткнулся обо что-то, и картинно шлепался на землю, и дети с хохотом проезжали мимо него. «Вставай, Виллем, вставай!» — кричали они, и он вставал, но к этому моменту они все уже успевали приехать к финишу, и он приходил последним. Иногда он думал, не завидуют ли дети тому, с какой легкостью он может упасть и снова встать, и если завидуют, не стоит ли ему перестать так делать, но когда он спросил об этом своего начальника, тот только взглянул на Виллема и сказал, что детей он веселит и чтоб падал дальше. И поэтому он каждый день падал, и каждый вечер, пока они с учениками ждали родителей, которые забирали их из школы, умевшие разговаривать дети спрашивали его, упадет ли он и завтра. «Ни за что! — уверенно отвечал он хихикавшим детям. — Вы что, смеетесь надо мной? Думаете, я и вправду такой неуклюжий?»
Во многом то было прекрасное лето. Их квартира находилась рядом с Массачусетским технологическим институтом, владельцем ее был профессор, который преподавал у Джуда математику: сам он на лето уехал в Лейпциг, а с них брал такую маленькую арендную плату, что они оба стали понемножку ремонтировать его жилье, чтобы хотя бы таким образом выразить свою благодарность. Джуд рассортировал книги, покосившиеся стопки которых торчали небоскребами на каждом шагу, грозя вот-вот рухнуть, и ошпаклевал вздувшийся от сырости кусок стены. Виллем подкрутил дверные ручки, поменял прокладки в подтекающих кранах, заменил клапан в бачке унитаза. Он начал встречаться с девушкой, которая училась в Гарварде и тоже работала ассистенткой преподавателя в его школе, и по вечерам она иногда заходила к ним, они готовили огромный котелок спагетти с мидиями, а Джуд рассказывал им, что профессор, у которого он работал, решил общаться с ним только на латыни или древнегреческом, даже когда речь шла о просьбах вроде «У меня закончились зажимы для бумаги» и «Не забудь завтра утром попросить, чтобы мне в капучино долили двойную порцию соевого молока». В августе в город стали возвращаться их друзья и знакомые (не только из их колледжа, но и из Гарварда, МТИ, Уэллсли и Тафтса), которые зависали у них на пару дней, перед тем как перебраться в общежитие или на съемную квартиру. Однажды вечером, незадолго до того, как им самим уже настала пора съезжать с квартиры, они пригласили в гости человек пятьдесят и устроили пикник на крыше. Они помогли Малкольму запечь на гриле под влажными банановыми листьями гору мидий и кукурузных початков. На следующее утро они вчетвером собирали с пола ракушки, забрасывая их в мешки для мусора и с удовольствием слушая их кастаньетный перестук.