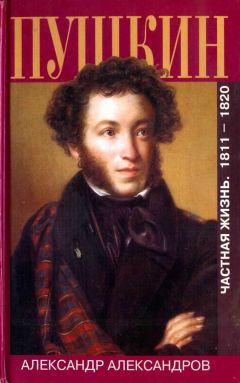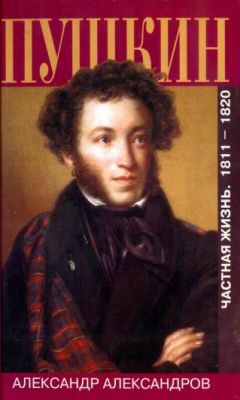— Разумеется, — улыбнулась княгиня мягкой, почти материнской улыбкой. Впрочем, почему у него мелькнула мысль про материнскую улыбку, он не знал, его родная мать так никогда не улыбалась и любви с лаской он от нее не видел.
— Жду вас к себе в полночь! — еще раз улыбнулась княгиня.
Он был чуть ниже ее ростом, с глазами голубыми, почти стеклянными, и ей показалось, что этот зверек, заморская обезьянка, даже прехорошенькая. Но отчего он дрожит? Боится? Привыкнет. Сгорает от страсти? Остынет. Надо бы приручить его у себя в салоне.
Пушкин стал постоянно бывать у Princesse Nocturn. Ее дом на Большой Миллионной был украшен кистью и резцом лучших современных живописцев. Хозяйка была словно вписана такой же кистью в изящный и строгий интерьер, в котором не было ничего преходящего из прихотей своенравной и скороизменчивой моды.
Всегда, даже летом, в гостиной горели дрова в камине, возле которого собирались гости. Корзины с цветами, напротив, стояли даже зимой. В гостиной находилось несколько музыкальных инструментов: клавесин, арфа, рояль, несколько прекрасных гитар. Играла и пела княгиня очень редко, но если начинала петь итальянские арии, подыгрывая себе на гитаре, то это могло продолжаться до утренней зари.
В полночь в этот, так и хочется сказать, храм, к жрице высокого служения собирались скорее не гости, а некие посвященные. Сам назначенный час был уже неким символом. Перед ней преклонялись, ее боготворили, но с ней и спорили, тем более что убеждения ее во всем были крайние. То она была за конституцию, то против, сегодня становилась монархисткой, а назавтра республиканкой.
Салон ее удивлял посвященного новичка, сама она восхищала, но самое главное — Александра влекло к ней как к женщине. Он буквально задыхался, когда княгиня подходила к нему и невзначай наклонялась над столиком, возле которого он сидел. И тогда он мог видеть совсем рядом ее легко вздымавшуюся белую грудь, зажатую в декольте роскошного и, как всегда, нестерпимо яркого платья.
Ему хотелось сказать ей о своей любви, но он понимал, что в этом случае лира его бессильна, ибо княгиня защищена как броней своим равнодушно-ровным ко всем отношением. Впрочем, иногда ему казалось, что княгиня дразнит его нарочно, но слова колких любезностей, готовые сорваться с грешного языка, застревали в горле; он смущался и терял нить разговора. Он чувствовал, что тоже интересен княгине, но едва он вновь пытался приблизиться к заветной теме, как чуткий женский ум княгини, только что зазывавший его охотно, улавливал возникавшее в нем нетерпеливое волнение, и она отступала в сторону на шаг, на два, чтобы, отступив, снова приманивать его к себе. Александр понимал, что в этой игре надобно терпение, но, впервые столкнувшись с серьезным соперником, все время терял самообладание. Тогда он срывался, убегал в ночь, ехал в веселый дом, где, натягивая очередную Лизетту, продолжал вздыхать о княгине.
Одновременно он не забывал про приемщицу билетов в зверинце. Ее звали Настасьей. Ежедневно он посещал зверинец, смотрел на смиренного льва, который обыкновенно весь день лежал посередине клетки, лишь приоткрывая на посетителей то один глаз, то другой, слушал то ли рев, то ли стон бегемота, похожий на звук басовой струны виолончели, любовался кудахтающими фазанами с длинными золотистыми хвостами. А более всего любовался на стройную златокудрую Настасью, выдававшую посетителям билетики. Когда никого рядом не было, он болтал с ней непринужденно. Снимая широкополую шляпу и обмахиваясь ей, он театрально запахивался в длинный плащ и принимал вид одинокого и гордого странника, никем не понятого и отвергнутого всеми. Когда же к ней подходили за билетами, он отходил в сторонку и обыкновенно принимался рассматривать свой длинный ухоженный ноготь на мизинце, сняв золотой наперсток, которым недавно обзавелся. Наперсток предохранял ноготь от повреждений с тех пор, как в деревне, гуляя с Ганнибалами, он невесть как сломал ноготь, выращенный за полгода.
Поначалу он не говорил ей, что стихотворец, но, видя, что дело не продвигается, стал читать ей стихи. Она смеялась и говорила, что ничего в стихах не понимает. Как-то он привел с собой барона Дельвига, который к тому времени вернулся с Украины в Петербург и, службой в соляном департаменте себя не утруждая, бездельничал, пил и гулял, как и Пушкин. Он тоже прочитал свои стихи в русском духе, но успеха не имел. Настасья снова смеялась и снова говорила, что ничего в стихах не понимает. Дельвиг благословил Пушкина, но посоветовал прежде пообещать ей денег.
— Мне кажется, она целочка, — вздохнул Пушкин.
Дельвиг заухал как филин и больше в зверинце не появлялся.
Пушкину отчего-то мысль о деньгах претила. Как-то Настасья рассмеялась над его ногтем и сказала, что ежели б он отрастил такие же ногти на всех пальцах, она непременно подумала бы, что он бес.
— А я и есть бес! — серьезно, глядя ей в глаза, стал уверять ее Пушкин. — Хвост показать? — И он принялся снимать панталоны.
— Боюсь вас, сударь! — отмахивалась она, и видно было, что ничего она не боится. — Застегните, люди увидят.
— Хвост увидят?! — хохотал во все горло Пушкин. — Черт с ними, пускай смотрят!
Он стал упрашивать Настасью о встрече, но она умело уводила разговор в сторону.
Как-то, когда он особенно напирал на нее, а посетителей долго не было, она спросила Александра напрямик:
— А у вас есть деньги-то?
— Деньги? — удивился он и подумал: «Ах, Дельвиг, Дельвиг!»
— А то вот и в зверинец вы ходите бесплатно, — намекнула она.
— На что мне твои звери! У нас знаешь сколько в Царском Селе зверей было! — охотно соврал он. Он знал, что когда-то зверинец в Царском Селе был наполнен стадами диких коз и оленей, водились и медведи, но сейчас в нем обитало всего несколько лам да две огромные черепахи, привезенные прошлым летом на корабле Российской американской компании. — А в ваш зверинец я хожу от скуки, когда ты, Настя, занята.
— Знаю, знаю… — усмехнулась она.
— А много ли денег тебе надо? — спросил Александр.
— Пяти рублей хватит.
Он удивился, что дальше пяти рублей фантазия ни у кого из них не разыгрывается, и ему стало грустно, когда он понял, что этот едва расцветший цветок уже грешен.
— Да вот, бери, — предложил он ей пять рублей. На удивление, они у него в этот раз оказались, деньги.
— Нет, потом, — заговорщицки прошептала она. — Мне некуда положить, у меня вон хозяйские деньги на руках. Вечером приходите, когда мы закрываемся. Я отдам деньги, и мы с вами пойдем.
Куда пойдем? Ты с кем живешь-то?
— Живу я с тетушкой, да мы пойдем здесь же, рядом…
— Боишься тетушки?
— Тетушка деньги отберет, а мне и своих скопить надо!
Вечером пошли действительно недалеко, в сам зверинец, где между клетками лежала гора сена, заготовленная для животных. На ней они и расположились и провели едва ли не всю ночь. Бегемот стонал, шевелился в своем бассейне, чавкая намешанной в нем глиной, басовито пел, как контрабас. Под утро стали кричать птицы, а Настасья уснула, склонив голову на его плечо. Он уснул и проснулся, она ровно дышала ему в шею и в ухо, и он почувствовал к ней особую нежность, которую, ему показалось, он ни к кому до сих пор не ощущал.
На третий день после встречи с ней он, встав утром и справляя малую нужду в горшок, почувствовал рези в канале и в промежности.
«Хуерык», — похолодел он от спины до затылка, и мурашки побежали на голове под волосами.
Первым делом он кинулся к Петруше Каверину.
Тот захохотал, хлопая его по плечам:
— У девушки, у сиротки, загорелося в середке, а у доброго молодца покапало с конца! Ну, с боевым крещением, братец! Когда капает, это ничего, не было бы хуже.
— А что же хуже, Пьер?
— Известно что, сифилис. Но он так быстро не проявится. Месяца через два жди бобонов. Хотя, впрочем, и сифон теперь лечится большими дозами Меркурия. Сам лечился.
— Ты?
— Чего ты смотришь с таким удивлением? Каждый гусар за время походов по нескольку раз переболел всеми этими болезнями нерусского имени. А ты крепись, сие происшествие есть оборотная сторона всего того приятного, что ты имел с женщинами.
Каверин сам отвез его к доктору Лейтону, тот сделал ему промывание, прописал лекарства и постельный режим на две недели.
Родителям пришлось сказать, что он простудился. Он залег в постель и принялся снова за тетрадь своих лицейских стихов, которую вернул ему перед отъездом Жуковский со своими поправками и предложениями, а потом за «Руслана и Людмилу».
Узнав про его болезнь, Александр Иванович Тургенев хохотал:
— Вот она-то и будет кормилицей его поэмы. Черт знает, чего еще пожелать, чтобы засадить его с пером за лист бумаги.
в которой происходит четверная дуэль Завадовского и Шереметева, Грибоедова и Якубовского. — Авдотья Истомина, Вася Шереметев и другие участники событий. — Черный Вран Якубович. — Завадовский отдает часы Петру Каверину. — Доктор Ион взывает к милосердию. — Шереметев намерен прикончить графа Завадовского, но падает сраженный его пулей. — «Ну что, Вася, репка?» — Поездка к Талону. — Шампанское и котлеты. — Ужасная тоска Грибоедова. — 12 ноября 1817 года.