И, забрав таз, повела его за собой. Я поплёлся следом.
Набравшейся в ведре дождевой водой она постирала одежду и повесила сушиться. Потом зашла в восточную пристройку, зажгла лампу, уселась на табуретку, спиной к разделочной доске, упёрлась локтями о колени, ладонями в подбородок, и стала смотреть перед собой, будто размышляя о своём.
Она была на свету, а я в тени. Её лицо высвечивалось с невероятной чёткостью. Синюшные губы, отстранённый взгляд. О чём она думала, эта женщина? Узнать это мне было не дано. Она сидела, пока не рассеялся мрак и не наступил рассвет.
Утро было необычайно оживлённое, во всех уголках города раздавались голоса людей. Одни радовались, другие печалились — тут жалобы, там проклятия… Небо по-прежнему застилали тучи, дождь то припускал, то ослабевал. Твоя жена принялась готовить завтрак. Похоже, лапшу делает. Ну да, так и есть. Так освежающе пахнуло мукой среди вездесущей вони. Донёсся твой храп — заснул-таки. Встал твой сын и, полусонный, побежал к нужнику. Пока я прислушивался к звону его струйки, сквозь слипшиеся в воздухе запахи грязи и нечистот пробился запах Пан Чуньмяо. Он быстро приближался, без сомнения, прямо к воротам твоей семьи. Гавкнув лишь раз, я опустил голову. На душе было тяжело; какая-то неописуемая печаль сжала горло, словно гигантская рука.
Пан Чуньмяо постучала. Постучала твёрдо и решительно, чуть ли не зло. Твоя жена побежала открывать, и женщины уставились друг на друга, разделённые лишь порожком ворот. Казалось, им хотелось очень много сказать, но ни слова сказано не было. Широкими шагами, вернее, чуть ли не бегом Пан Чуньмяо устремилась во двор. Твоя жена поковыляла вслед, вытянув вперёд руки, будто желая задержать её. Из дома вылетел твой сын, добежал до середины дорожки, покружил там с напряжённым лицом — настоящая иллюстрация полной растерянности, — потом бросился закрывать ворота.
Через оконное стекло я видел, как Пан Чуньмяо торопливо преодолела маленький коридор, вошла в комнату твоей жены и тут же разрыдалась в голос. В комнату зашла твоя жена и расплакалась ещё громче. Твой сын присел на корточки у колодца, всхлипывая и омывая лицо водой.
Женский плач прекратился, и, похоже, начались непростые переговоры. Они всхлипывали, горло им перехватывало от волнения — слова разобрать трудно, но можно.
— Надо же так жестоко избить человека! — Это сказала Пан Чуньмяо.
— Пан Чуньмяо, мы с тобой никогда врагами не были, и теперь враждовать не резон. Столько хороших парней вокруг, зачем тебе разрушать нашу семью?
— Сестра, я понимаю, это недостойно с моей стороны, я хотела бы оставить его, но не могу, это судьба…
— Лань Цзефан, тебе решать, — сказала твоя жена.
После некоторого молчания раздался твой голос:
— Прости меня, Хэцзо, но я ухожу.
С помощью Чуньмяо ты поднялся. Вы прошли по коридору и вышли из дома во двор. Твой сын выплеснул перед тобой воду из таза, опустился на колени на дорожку и поднял к тебе заплаканное лицо:
— Папа, не бросай нас… Тётя Чуньмяо тоже может остаться… Ведь наши бабушки были когда-то наложницами дедушки Симэня, верно?
— Это же было в старом обществе, сынок… — печально проговорил ты. — Кайфан, заботься о маме как следует. Она ни в чём не виновата, это всё папы твоего вина. Хоть я и ухожу, я буду делать всё, чтобы заботиться о вас.
— Можешь уходить, Лань Цзефан, но запомни раз и навсегда: пока я жива, о разводе даже не заикайся, — стоя в дверях дома, презрительно усмехнулась твоя жена, но из глаз у неё катились слёзы. Спускаясь со ступенек, она упала, но быстро вскочила. Обошла вас с Пан Чуньмяо и сердито потянула за руку сына. — А ну встань, настоящий мужчина не встаёт ни перед кем на колени, даже если золото под ногами! — И она с сыном шагнула на набухшую от дождя землю рядом с дорожкой, чтобы вы могли пройти.
Как и твоя жена, тащившая тебя от ворот в дом, Пан Чуньмяо просунула голову тебе под мышку слева, свесив твою левую руку себе на грудь, обхватила правой за талию, и вы с трудом двинулись вперёд. Казалось, эта хрупкая девочка вот-вот упадёт под тяжестью твоего тела, но она держалась, и эта сила воли не могла оставить равнодушным даже пса.
Вы вышли из ворот, и какое-то непонятное чувство заставило меня выйти вслед за вами. Я стоял на ступеньках и провожал ваши фигуры взглядом. Вы шли по переулку, шлёпая по грязной воде. Твою пижаму из белого шёлка быстро заляпало жидкой грязью. Не осталось живого места и на одежде Пан Чуньмяо. Особенно бросалась в глаза в эту сумрачную погоду её красная юбка. Хлестал косой дождь, люди на улице — кто в дождевике, кто с зонтом, — мерили вас любопытными взглядами.
Переполненный эмоциями, я вернулся во двор, забрался к себе и улёгся, глядя в сторону восточной пристройки. Твой сын сидел на табуретке и хныкал. Твоя жена поставила на стол перед ним чашку дымящейся лапши и скомандовала:
— Ешь!
ГЛАВА 50
Лань Кайфан бросает в отца жидкой грязью. Пан Фэнхуан обливает тётку краской
Наконец мы с Чуньмяо воссоединились. Путь от моего дома до книжного магазина здоровый человек преодолеет быстрым шагом минут за пятнадцать, мы же тащились часа два. У Мо Яня это было бы и романтическое путешествие, и путь страданий; бесстыдный поступок и благородное деяние; отступление и атака; сдача на милость врагу и сопротивление; слабость и сила; вызов и компромисс. У него таких оксюморонов полно. С одними я согласен, другими, считаю, он просто морочит людям голову. На самом деле, как мне кажется, в том, как я ушёл из дома, опираясь на Чуньмяо, нет ничего возвышенного или блистательного, здесь лучше всего подходят два слова — смелость и честность.
Теперь, когда я вспоминаю об этом, перед глазами предстают разноцветные зонты и дождевики всевозможных форм, грязь и сточные воды повсюду, хватающая ртом воздух рыба на бетонных мостовых и целые полчища лягушек. Этот страшный ливень в начале девяностых годов обнажил многочисленные злоупотребления, скрытые в то время под оболочкой экономического бума.
Нашим любовным гнёздышком на время стало общежитие Чуньмяо.
— Вот до чего докатился, скрывать уже нечего, — сказал я во всём разбирающемуся Большеголовому.
Воссоединились мы с Чуньмяо не только для этого — но стоило зайти в комнату, как мы тут же слились в поцелуе. А потом стали заниматься любовью, хотя тело моё было покрыто ранами и боль пронзала невыносимая. Мы глотали слёзы друг друга, я весь дрожал от счастья, и наши души сливались воедино. Я не спрашивал, как она пережила эти дни, она не спрашивала, кто меня так избил. Мы лежали в объятиях друг друга, целовались, ласкали друг друга и ни о чём больше не думали.
Твой сын съел из-под палки полчашки лапши, обильно оросив её слезами. А у твоей жены аппетит прорезался зверский. Она умяла с тремя дольками чеснока свою чашку, потом ещё с двумя дольками доела лапшу сына. От жгучего чеснока лицо её раскраснелось, на лбу и на носу выступили капельки пота. Вытерев лицо сына полотенцем, она твёрдо заявила:
— Держись прямо, сынок, хорошо ешь, хорошо учись, вырастай в могучего мужчину! Пусть надеются, что мы загнёмся, — как бы не так! Ещё посмеёмся над ними!
Я пошёл провожать твоего сына в школу. Твоя жена дошла с нами до ворот. Он обернулся и обхватил её за талию.
— Гляди-ка, ты уже выше меня, — похлопала она его по спине. — Большущий вымахал.
— Мама, смотри не вздумай…
— Не смеши меня, — усмехнулась она. — Неужели ты думаешь, что из-за таких подонков я могу повеситься, прыгнуть в колодец или выпить яду? Успокойся и шагай давай. Маме тоже скоро на работу. Людям нужен хворост, значит, нужна и твоя мама.
Мы пошли, как обычно, коротким путём. Вода в речушке Тяньхуа поднялась вровень с мостиком. Пластиковую крышу сельского рынка в нескольких местах сорвал ветер, на промокших тюках с тканями и одеждой сидели, пригорюнившись, торговцы из Чжэцзяна. Несмотря на ранний час, было душно, в грязи копошились вылезшие из земли дождевые черви, низко кружились стайки красных стрекоз. Твой сын подпрыгнул и ловким движением поймал одну. Потом ещё одну. И протянул мне:
— Съешь, пёсик?
Я помотал головой.
Он оторвал им хвосты, нанизал вместе на соломинку и с силой подбросил в воздух:
— Летите!
Стрекозы перевернулись в воздухе и упали в грязную лужу.
В школе Фэнхуан ночью обрушился потолок в нескольких классах, вот ведь счастье среди несчастий. Случись это днём во время занятий, Пан Канмэй, которая явилась осмотреть постигшее школу бедствие, таких пафосных речей не произносила бы. На школьном дворе повсюду валялись обломки мусора и царила неразбериха. Прыгавшие среди обломков дети ничуть не переживали, наоборот, радовались. Около школьных ворот стояла дюжина заляпанных жидкой грязью лимузинов. Пан Канмэй в розовых полусапожках, в закатанных до колен брюках, из-под которых выглядывали белоснежные, измазанные в грязи голени, в синем рабочем комбинезоне и тёмных очках, говорила в мегафон на батарейках:

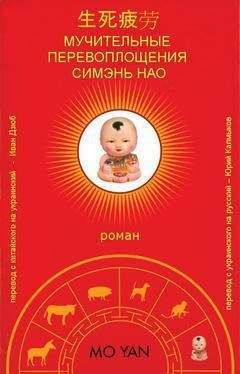



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)