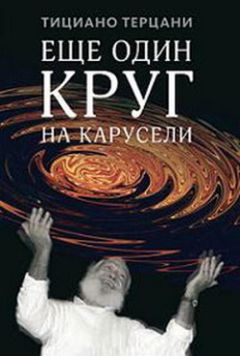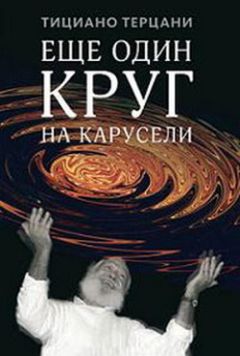Вдохновил меня на это Новалис, мой двухлетний внук, — любопытный, наивный, радующийся и удивляющийся всему, не знающий еще чувства, подавляющего в человеке все остальные, а именно — страха. Мне хотелось ему оставить что-нибудь, кроме воспоминания о дедушке с бородой. Так и родилась мысль увидеть собственными глазами первопричину всех страхов: насилие. Мои «Письма против войны» посвящены внуку.
За три месяца, проведенные в скитаниях по Пакистану и Афганистану, я часто думал о моем домике и о Старце. Я представлял себе, как он улыбается, посмеиваясь над пылом, с которым я воюю с насилием. Я так и слышал, как он говорит, что все это бесполезно, что эта цивилизация недостойна того, чтобы быть спасенной, что не уберечь тонущий корабль, судорожно затыкая бессчетные пробоины. Я знаю, Старец был убежден, что человечество, гоняясь за чувственными удовольствиями, находится на грани нервного срыва, и оценивал все происходящее с точки зрения Вечности, в которой мир уже рождался семь раз и семь раз погибал.
Возможно, он был прав, силы, которые во всем этом замешаны, куда могущественнее нас, но я не желал смиряться. Будь он сейчас рядом, у него наверняка нашлась бы какая-нибудь подходящая цитата. Хорошо бы из этого хитромудрого мистика Гурджиева, который считал, что двухсот просветленных хватило бы, чтобы изменить историю человечества. Не попытаться ли стать одним из них? Я представлял, как Старец говорит, что «быть» намного важнее, чем «делать», но я знаю, что бывают моменты, когда нужно что-то делать, чтобы продолжать быть. И в этих обстоятельствах бездействие оборачивалось действием ? и действием, на мой взгляд, аморальным.
В сущности, в этой его похвале неделанию было что-то глубоко индийское, что мне претило, ибо противоречило моей природе. Если крыша моего дома протекает, я должен ее починить. Старцу же, я знал, удавалось оставаться равнодушным.
Возвращаясь из Кабула, я заехал в Дели, а оттуда отправился в свой домик, чтобы там написать последнее «письмо против войны». Когда я увидел Старца, мне показалось, что все наши мысленные беседы происходили в действительности.
— Раз уж взялся писать, то будь, по крайней мере, искренним, — сказал он.
В этом я решил следовать его совету. Потом он задал вопрос, на который мне оказалось нелегко ответить с полной искренностью.
— Ну, а книгу свою ты для кого пишешь — для Него или для себя? — спросил он, пристально глядя на меня. Иными словами, посвятил ли я себя Тому, Познанию, Бхагавану, Голосу или все-таки делаю это во имя собственного «я»? Почему я пишу? Потому ли, что это, на мой взгляд, приближает меня к Истине, или потому, что мне лестно видеть свое имя на страницах газет, нравится, что люди ко мне прислушиваются? Это был в высшей степени справедливый и уместный вопрос; произнеся это, Старец приставил ко мне незримого Стража, присутствие которого я чувствую теперь везде, куда бы ни направлялся. Это весьма полезно, чтобы не терять контроль над происходящим и преодолевать свое «я». По словам Старца, было бы намного лучше, если бы я «рыл на одном месте, вместо того, чтобы шататься по свету, подбирая булыжники и воображая, что это самоцветы». Но и его мнение не было окончательным.
— В конце концов ты найдешь Путь… если только для этого у тебя хватит мужества утратить себя, — заключил он, цитируя одного поэта, писавшего на урду.
Я многим был обязан Старцу, он указал мне обратный путь. Он заставил меня понять, что не следует зависеть ни от какой чужой идеи, ни от какого гуру, тем более от него самого. Что каждую вещь я должен испытать непосредственно на своей шкуре, приобретя собственный опыт. Я должен сам прислушаться к Голосу, а не доверяться чужим пересказам.
Мне очень повезло, что они вошли в мою жизнь — Индия и Старец, но то, чему в итоге я, кажется, научился, приобретенное мною знание — не индийское. Оно — часть той вечной философии, у которой нет национальности, которая не связана ни с одной религией, ибо речь идет о самом глубинном стремлении человеческого духа, о вечной потребности узнать, как мы пришли в этот мир и как соединиться с тем, что нас сюда привело.
В Индии, где ни от чего и никогда не отказываются, ответы на эти вопросы до сих пор на устах у людей, они — в их образе жизни, как прежде было и у нас. Но не обязательно физически перемещаться в Индию, не обязательно ехать так далеко за пониманием, не обязательно искать ответ во внешнем мире. Тот, кто действительно умирает от жажды познания, должен просто разыскать свой собственный родник. А вода — она всегда одна и та же.
В конце концов все испытывается на прочность: идеи, усилия, то, в чем ты вроде бы разобрался, успехи, которых, ты вроде бы достиг… А единственный «испытательный полигон» — собственная жизнь. К чему же сидеть, скрестив ноги, и часами медитировать, если это не сделало тебя лучше, не отдалило от мирской жизни, от чувственных желаний, от потребностей плоти? К чему рассуждать о жизни и смерти, если потом, в ситуации «жизнь или смерть», человек руководствуется не убеждениями, а привычкой?
Пока я уединялся в горах на высоте три тысячи метров над уровнем моря, все было хорошо: не возникало противоречий между тем, что я думал, и тем, что говорил, между тем, кем я был и кем хотел стать. Да и откуда? Жил я один, существуя практически только в измерении сознания; и ничто в моей жизни не вынуждало меня делать серьезный выбор. Но и для меня настал момент истины, причем совершенно неожиданно: это случилось в Нью-Йорке.
Очередной плановый осмотр в больнице. Прошло более пяти лет с начала моего странствия, чувствовал я себя хорошо. И «ремонтники» могли бы рассматривать мой случай как один из успешных. Даже если б я умер год спустя, это, как сказал мне когда-то доктор из Дехра-Дун — тот, с ртутными порошками, — уже не смогло бы испортить статистику Онкологического центра. Я думал пробыть в Нью-Йорке не более недели, моего обычного срока, и вернуться во Флоренцию к участию в Общественном форуме и в большой антивоенной акции. Но Бхагаван, которому, как и мне, не нравится размеренная, заранее распланированная жизнь, посмеялся над моими планами и, наверное, чтобы преподать мне урок, сделал так, что все пошло вкривь и вкось. И началось это с самого приезда в Нью-Йорк.
В Иммиграционном бюро Анджелу приняли передо мной и выдали трехмесячную визу. Потом чиновник взял мой паспорт, пролистал, взглянул на меня и ввел данные в компьютер. Уж не знаю, что он там увидел, только он тут же отобрал паспорт у Анджелы и сказал: «Следуйте за мной».
Что за причина? Моя борода? Или многочисленные пакистанские визы? Из-за Афганистана? А может, указание американского посольства в Риме, которое уже публично заявило мне протест по поводу отдельных пассажей из «Писем против войны»?
Нас передали другому чиновнику и устроили в небольшом холле, где молча дожидались решения своей судьбы другие встревоженные подозреваемые. И подозрения эти были в терроризме, ясное дело. У многих мужчин, как и у меня, была длинная борода; головы их жен были покрыты черными шалями. Это были мусульмане из Пакистана, Саудовской Аравии, Йемена.
Мы прождали с полчаса, потом меня подозвал чиновник. Из-за своего барьера он смотрел на меня сверху вниз, а мне приходилось задирать голову. Чиновник сообщил, что мой въезд в Соединенные Штаты нежелателен, но он вправе либо дать мне въездную визу, либо отказать. Я объяснил, что вынужден приезжать регулярно, показал вызов из Онкологического центра и обратный билет с подтвержденной датой вылета. Вопросы, ответы, долгие обсуждения и, наконец, вердикт:
— В следующий раз обращайтесь за визой заблаговременно, — сказал чиновник, возвращая мой проштампованный паспорт. Мы облегченно вздохнули, все обошлось. Или нет?
Если бы этот чиновник вместо выдачи визы выдворил меня первым же авиарейсом, я расценил бы это как несчастье. Ну а сейчас? Трудно понять нечто случившееся, когда оно только-только произошло. Научиться бы меньше придавать значения оценкам: хорошо — плохо, приятно — неприятно, поскольку они меняются со временем. И нередко первые суждения оказываются нелепыми.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что если бы я тогда не въехал в США и не прошел обследование, меня бы, по крайней мере, миновало все последующее. Было бы это «хорошо» или «плохо»? Удачей или неудачей?
Но, получив визу, на следующее утро точно в назначенное время я явился в Центр. Там вновь встретился с «ремонтниками», сказал, что я в прекрасной форме и полон энергии, что аппетит отменный, ничего у меня не болит, могу долго и без устали ходить пешком, а главное — я пребываю в мире с самим собой. Казалось, они были со мной согласны. Но, к сожалению, не их приборы! Особенно эта змеевидная штука с лампочкой в голове, которую Спелеолог запускал в мои оглушенные анестезией внутренности. Дела оказались плохи: мой неразлучный друг принялся еще за один из органов и этот очередной «кусок меня» надо было удалить и немедленно (плохая новость). Но заодно мне повезло: лучший хирург больницы как раз свободен и мог заняться мною (хорошая новость).