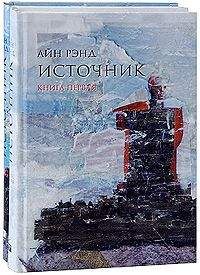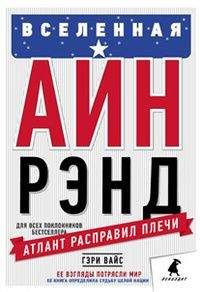Когда они сели за стол, она спросила:
— Почему вы оставили меня одну?
— Я подумал, что вы, возможно, хотите побыть одна.
— Свыкнуться с мыслью?
— Если вам угодно так ставить вопрос.
— Я свыклась с ней до того, как пришла в ваш кабинет.
— Да, конечно. Извините, что допустил в вас какую-то слабость. Вам лучше знать. Кстати, вы не спросили, куда мы направляемся.
— Это тоже было бы слабостью.
— Верно. Но я рад, что вам это безразлично, потому что предпочитаю не придерживаться определённого маршрута. Это судно служит не для прибытия куда-то, а наоборот, для ухода откуда-то. Я делаю стоянку в порту лишь для того, чтобы почувствовать ещё большую радость ухода. Я всегда думал: вот ещё одно место, которое не может удержать меня.
— Я привыкла путешествовать. И всегда испытывала те же чувства. Мне говорили, это оттого, что я ненавижу человечество.
— Вы же не так глупы, чтобы в это поверить?
— Не знаю.
— Нет, нет, вас этот бред определённо не собьёт с толку. Я имею в виду тезис, что свинья — символ любви к человечеству, ибо она приемлет всё. Честно говоря, человек, который любит всех и чувствует себя дома всюду, — настоящий человеконенавистник. Он ничего не ждёт от людей, и никакое проявление порочности его не оскорбляет.
— Вы имеете в виду людей, которые говорят, что в худшем из нас есть частица добра?
— Я имею в виду тех, кто имеет наглость утверждать, что он одинаково любит и того, кто изваял вашу статую, и того, кто продаёт воздушные шары с Микки Маусом на перекрёстках. Я имею в виду тех, кто любит тех, кто предпочитает Микки Мауса вашей статуе, — и таких людей много. Я имею в виду тех, кто любит и Жанну д’Арк, и продавщиц магазина готовой одежды на Бродвее, — и с той же страстью. Я имею в виду тех, кто любит вашу красоту и женщин, которых видит в метро, — из тех, кто не может скрестить ноги, не показав кусок плоти над чулками, — и с тем же чувством восторга. Я имею в виду тех, кто любит чистый, ищущий и бесстрашный взгляд человека за телескопом и бессмысленный взгляд идиота — одинаково. Я имею в виду весьма большую, щедрую и великодушную компанию. Так кто же ненавидит человечество, миссис Китинг?
— Вы говорите всё то, что… с тех пор как я себя помню… как я начала понимать и думать… меня… — Она замолчала.
— Вас это мучило. Конечно. Нельзя любить человека, не презирая большинство тех созданий, которые претендуют на такое же определение. Одно или другое. Нельзя любить Бога и святотатство. Не считая случаев, когда человек не знает, что совершено святотатство. Потому что не знает Бога.
— Что вы скажете, если я отвечу, как обычно отвечали мне: любовь — это прощение?
— Я отвечу, что это непристойность, на которую вы не способны, даже если считаете себя специалистом в подобных делах.
— Или что любовь — это жалость.
— О, помолчите. Достаточно дурно даже слышать это. Слышать же это от вас — отвратительно даже в шутку.
— Так что же вы ответите?
— Что любовь — это почтение, обожание, поклонение и взгляд вверх. Не повязка на грязных ранах. Но они этого не знают. Тот, кто при всяком удобном случае говорит о любви, никогда её не испытывал. Они стряпают неаппетитное жаркое из симпатии, сострадания, презрения и безразличия и называют это любовью. Если вы испытали, что означает любить, как вы и я понимаем это: полнота страсти до высочайшей её точки — на меньшее вы уже не согласны.
— Как… вы и я… понимаем это?
— Это то, что мы чувствуем, глядя на что-то подобное вашей статуе. В этом нет прощения, нет жалости. И я убил бы того, кто утверждает, что они должны быть. Но, понимаете, когда такой человек созерцает вашу статую, он ничего не чувствует. Она или собака с перебитой лапой — ему всё равно. Он даже чувствует себя более благородным, перевязав лапу собаке, чем глядя на вашу статую. Поэтому, если вы пытаетесь найти сияние величия, если вы хотите больших чувств, если вы требуете Бога и отказываетесь промывать раны вместо всего этого, вас называют человеконенавистником, миссис Китинг, потому что вы совершили преступление. Вы узнали любовь, которую человечество ещё не сумело заслужить.
— Мистер Винанд, вы прочли то, за что меня уволили?
— Нет. Тогда нет. А теперь не осмеливаюсь.
— Почему?
Он не ответил на вопрос, улыбнулся и сказал:
— И вот вы пришли ко мне и сказали: «Вы самый низкий человек на свете — возьмите меня, чтобы я познала презрение к себе. Во мне нет того, чем живёт большинство людей. Они находят, что жизнь вполне сносна, а я не могу». Теперь вы видите, что вы этим показали.
— Я не ожидала, что это увидят.
— Нет. Во всяком случае не издатель нью-йоркского «Знамени». А я ожидал красивую сучку, приятельницу Эллсворта Тухи.
Оба рассмеялись. Она подумала, как странно, что они могут говорить так свободно, как будто он забыл цель этой поездки. Его спокойствие породило возникшую между ними умиротворённость. Она наблюдала, с какой ненавязчивой грацией их обслуживали за обедом, рассматривала белоснежную скатерть на тёмном фоне красного дерева. Она невольно подумала, что впервые находится в по-настоящему роскошном помещении, причём роскошь была вторичной, она была столь привычным фоном для Винанда, что её можно было не замечать. Человек стал выше своего богатства. Она видела богатых людей, застывших в страхе перед тем, что представлялось им конечной целью. Роскошь не была целью, как не была и высшим достижением человека, спокойно склонившегося над столом. Она подумала: что же для него цель?
— Судно соответствует вам, — сказала Доминик. Она заметила в его глазах огонёк радости — и благодарности.
— Благодарю… А художественная галерея?
— Да, но она менее извинима.
— Я не хочу, чтобы вы извинялись за меня. — Он произнёс это просто, без упрёка.
Ужин был закончен. Она ждала неизбежного приглашения. Его не последовало. Он продолжал сидеть. Курить и говорить о яхте и океане.
Случайно её рука оказалась на скатерти, рядом с его рукой. Она видела, как он посмотрел на неё. Она хотела было отдёрнуть руку, но пересилила себя и оставила её неподвижной на столе. «Сейчас», — подумала она.
Он встал и предложил:
— Пройдёмте на палубу.
Они стояли у бортового ограждения и смотрели в чёрное, пустое пространство. Несколько звёзд делали реальным небо. Несколько белых искр на воде давали жизнь океану.
Он стоял, беззаботно склонившись над бортом, одной рукой держась за бимс. Она видела, как плывут по воде искры, обрамляя гребешки волн. И это тоже соответствовало ему.
Она сказала:
— Могу я назвать ещё один порок, которого вы не испытали?
— Какой же?
— Вы никогда не чувствовали себя маленьким, глядя на океан.
Он рассмеялся:
— Никогда. И глядя на звёзды тоже. И на вершины гор. И на Большой Каньон{68}. А почему я должен это испытывать? Когда я смотрю на океан, я ощущаю величие человека. Я думаю о сказочных способностях человека, создавшего корабль, чтобы покорить это бесчувственное пространство. Когда я смотрю на вершины гор, я думаю о туннелях и динамите. Когда я смотрю на звёзды, мне приходят на ум самолёты.
— Да. И то особое чувство священного очарования, которое, как говорят люди, они испытывают, созерцая природу, и которого я не получила от природы, а только от… — Она замолчала.
— От чего?
— От зданий, — прошептала она. — Небоскрёбов.
— Почему вы не хотели сказать это?
— Не знаю.
— Я отдал бы самый красивый закат в мире за вид нью-йоркского горизонта. Особенно когда уже не видны детали. Только очертания. Очертания и мысль, которая их воплотила. Небо над Нью-Йорком и сделавшаяся осязаемой воля человека. Какая ещё религия нам нужна? А мне говорят о какой-нибудь сырой дыре в джунглях, куда идут поклониться разрушенному храму и скалящемуся каменному монстру с круглым животом, созданному поражённым проказой дикарём. Разве люди хотят видеть красоту и талант? Разве они ищут высокого чувства? Пусть они приедут в Нью-Йорк, станут на берегу Гудзона и упадут на колени. Когда я вижу город сквозь своё окно, нет, я не чувствую себя маленьким, но если всему этому будет угрожать война, я хотел бы взлететь над городом, чтобы своим телом защищать эти здания.
— Гейл, когда ты говоришь, я не знаю, тебя я слушаю или саму себя.
— Слышала ли ты себя только что?
Она улыбнулась:
— Только что нет. Но я не хочу брать свои слова обратно, Гейл.
— Благодарю тебя… Доминик. — Голос его был нежным и удивлённым. — Но мы говорили не о тебе или обо мне. Мы говорили о других. — Он опёрся о борт обеими руками, говорил и смотрел на искорки на воде. — Интересно рассуждать о том, что заставляет людей так унижать самих себя. Например, ощущать своё ничтожество перед лицом природы. Ты замечала, как самоуверенно звучит голос человека, когда он говорит об этом? Посмотри, говорит он, я так рад быть пигмеем, посмотри, как я добродетелен. Ты слышала, с каким наслаждением люди цитируют некоторых великих, которые заявляли, что они не так уж и велики, когда смотрят на Ниагарский водопад? Они как будто облизывают губы в немом восторге от того, что лучшее в них — всего лишь пыль в сравнении с грубой силой землетрясения. Они словно, распластавшись на брюхе, расшибают лбы перед его величеством ураганом. Но это не тот дух, что приручил огонь, пар, электричество, пересёк океан на парусных судах, построил аэропланы, плотины… и небоскрёбы. Чего же они боятся? Что же они так ненавидят — те, кто рождён ползать? И почему?