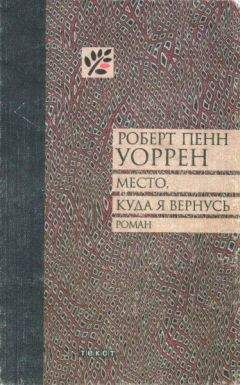В конце концов я забылся тяжелым сном.
Когда я проснулся, было темно. Комнату наполнял ритмичный гул большого города, похожий на доносящийся издалека шум прибоя.
Лежа в темноте на койке, я смотрел, как пляшет на неровном потолке красноватый отблеск света, шедшего откуда-то из-за окна. Свет ритмично пульсировал, как будто в такт с ритмом городского гула. Потом мне показалось, что этот двойной ритм совпадает с биением моего сердца, что он заполняет все мое существо. Я вдруг понял, что наконец постиг мистическую связь между самим собой и окружающим миром, и на глаза у меня навернулись слезы.
Я встал, зажег свет и пересчитал свои деньги. Взяв клочок бумаги и карандаш, я подсчитал, что если тратить на еду по 50 центов в день и еще по 50 центов — на разъезды в поисках работы, то у меня еще останется, чем платить за эту комнатку в течение двух месяцев. За это время я должен что-то себе подыскать.
Я почти постоянно испытывал голод, но строго придерживался намеченной программы. Было ясно, что найти работу не так просто. Вечером двадцать пятого дня я снова пересчитал деньги, чтобы убедиться, что смогу продержаться еще немного, и улегся в постель. Но посреди ночи я проснулся. Какой же я был дурак!
На следующее утро, в восемь часов, я уже сидел в университетской библиотеке и листал телефонный справочник. Через двадцать минут я был у входа в приемную доктора Генриха Штальмана, из-за которого перевернулась вся жизнь мистера Пилсбона. Приемная открылась только в девять, и секретарша сказала мне, что приемные часы доктора Штальмана уже расписаны до будущей недели. Да, сегодня у него есть занятие.
Я отправился в библиотеку и стал ждать. Взяв «Одиссею» на древнегреческом, я нашел то место, где Одиссей при дворе Алкиноя говорит о своем одиночестве и вспоминает Итаку.
В час дня я пошел разыскивать какую-нибудь закусочную подешевле. Потом нашел тот корпус и ту аудиторию, где должен был проводить занятие доктор Штальман. Притаившись в углу и не спуская глаз с двери аудитории № 17, я от нечего делать повторял про себя слова Одиссея, которые только что перечитал и которые давным-давно знал наизусть, — о том, что, хотя Итака — всего-навсего скалистый островок посреди моря и годится только на то, чтобы растить там мальчишек, во всем мире нет для него места дороже.
И тут вдруг меня охватило нечто вроде отчаяния. Я понял — понял слишком поздно, хотя давным-давно заучил эти звучные слова наизусть! — что Одиссей, пусть даже он зря потратил столько времени в своих странствиях, все же в глубине души тянулся к этому скалистому островку, а для меня не было во всем мире ничего, совсем ничего, к чему я мог бы тянуться.
Мое одиночество было не таким, как у Одиссея. Он был раб своего одиночества, потому что его куда-то тянуло. Я же в своем одиночестве был свободен, потому что меня не тянуло никуда. Годится ли Дагтон хотя бы на то, чтобы растить там мальчишек?
Он вырастил меня.
Дикая радость пронзила меня, как острая боль. Это была радость от ощущения свободы. Я рассмеялся, стоя в темном углу коридора.
Уже появились первые студенты. Кое-кто из них посматривал на меня, и мне стало стыдно. Все они были здесь на своем месте, а я нет. Их беглые взгляды скользили по мне, словно меня вообще не существовало. По одному, по двое они входили в аудиторию. Я встал ближе к двери.
Вот показался и он, и у меня упало сердце.
По двум причинам. Во-первых, потому, что его сопровождали человек восемь-десять студентов, которым он что-то серьезно говорил и которые слушали его, стараясь не упустить ни слова. Во-вторых, потому, что он оказался таким, каким был.
Он был довольно высок, выглядел еще выше из-за своей худобы и слегка сутулился — позже один мой приятель, итальянский ученый из Рима, в шутку называл это «curvo filologico», «филологической сутулостью». Но у доктора Штальмана эта ученая сутулость казалась проявлением вежливого внимания, словно он склонялся с высоты своего роста, чтобы получше расслышать даже самое банальное высказывание, и в то же время некоей элегантно-сдержанной непринужденности. Его костистое тело было облачено в костюм из ирландского твида цвета перца с солью. На шее у него был крахмальный воротничок — как я узнал позже, такие надевают с фраком, — и темно-красный галстук-бабочка, завязанный свободным узлом. Голову над неширокими, но крепкими на вид плечами венчала роскошная шевелюра серо-стального цвета, зачесанная с высокого лба назад, а самоуверенный подбородок украшала аккуратно подстриженная эспаньолка такого же серо-стального цвета. Даже издалека было видно, что у него крупный орлиный нос и темные глаза, способные, как я позже убедился, приводить в замешательство своим острым, пронизывающим взглядом, но сейчас этот взгляд смягчало пенсне в черепаховой оправе с длинным черным шнурком, шедшим к левому отвороту пиджака и прикрепленным к нему зажимом. В руке у него была трость с прямой ручкой.
По мере того как он приближался, я все больше робел, и при мысли о том, что сейчас надо будет обратиться к такой важной персоне, язык у меня в самом буквальном смысле прилип к гортани.
Но даже в ту минуту я с внезапным ощущением грусти и жалости — которое, несомненно, относилось отчасти и ко мне самому — понял, что это тот человек, на которого, несмотря на свой маленький рост, безволосый розовый череп, мягкий нос картошкой, отвислый живот и так и не защищенную диссертацию, в своих мечтах видел себя похожим мой мистер Пилсбон: человек, царственно воплощающий в себе саму ученость.
Я целый час слонялся по коридору, надеясь, что мне представится случай, набравшись храбрости, подойти к нему после занятия. Но мои надежды были напрасными. Вместе с ним в коридор высыпала целая толпа студентов. Могу добавить, что, когда он только появился, у него через руку было перекинуто что-то такое, что я принял за темное пальто или плащ и что оказалось черной мантией, которая теперь была наброшена на его плечи и величественно развевалась на ходу.
И я снова подумал о мистере Пилсбоне. Я вдруг понял, что именно такую мантию он и хотел бы иметь больше всего — и что это был единственный внешний признак учености, которым там, далеко, в Блэкуэлле, штат Алабама, он так и не осмелился обзавестись. Но через секунду, стоя в уже опустевшем коридоре в Чикаго, я с полной несомненностью догадался, что мистер Пилсбон, преодолевая смущение и робость, все же купил себе такое одеяние. И что по ночам, заперев двери и задернув шторы в своей жалкой маленькой комнатке, он надевает ее. Стоя перед зеркалом, он медленно снимает пенсне и, держа его за один конец, властно потрясает им, орлиным взором глядя сверху вниз на человека в зеркале.
Я стал проводить меньше времени в поисках работы и больше — в университете, подстерегая доктора Штальмана или украдкой следуя за ним повсюду и пытаясь собраться с духом, чтобы к нему обратиться. Однажды ближе к вечеру, после его лекции, я незаметно проводил его до библиотеки, потом ждал на улице у входа, пока не стемнело, а когда он вышел, возобновил свое преследование. Так я узнал, где он живет, — на маленькой улице, еще не начавшей приходить в упадок, как соседние, где споры социальной болезни уже поражали квартал за кварталом. Дом стоял посреди хорошо ухоженного газона, где росли два огромных клена, а немного дальше — высокая сосна. Сам дом был деревянный, довольно большой и выстроенный в том ужасном мрачно-затейливом стиле, который был моден полустолетием раньше, — с беспорядочно торчащими там и сям мавританскими минаретами и башенками, крытыми чешуйчатым гонтом, с множеством витражей в самых неожиданных местах и замысловатыми резными завитушками под свесами крыши и по всем углам и карнизам, где только можно. По обе стороны выложенной кирпичом дорожки, которая вела к крыльцу, стояли, как часовые, два чугунных оленя.
В тот первый вечер я долго бродил в тени этих кленов. Один раз я даже дошел до крыльца с твердым намерением подойти к входной двери, украшенной цветными стеклами, через которые изнутри пробивался свет. Но на это у меня так и не хватило духу. На протяжении следующих недель я несколько раз доходил вслед за доктором Штальманом до этого места, все еще надеясь на то, что вдруг каким-то чудом у меня прибавится храбрости.
Чудо произошло только в ноябре. Я следовал за своей жертвой во время вечерней прогулки, на которую доктор Штальман, как я выяснил, выходил после ужина. Я держался в квартале позади него, а он энергично шагал под уличными фонарями в развевающейся мантии, крепко держа в руке трость намного ниже набалдашника — наподобие того, как держат маршальский жезл. «Сегодня или никогда, — решил я. — Подойду к нему за два квартала от его дома — тогда он, по крайней мере, не сможет захлопнуть дверь у меня перед носом. Ему придется меня выслушать. Хотя бы столько времени, сколько нужно, чтобы пройти два квартала».