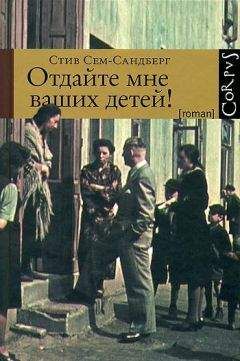~~~
Однажды утром немецкая полиция сообщила, что на «арийской территории» найдено тело женщины — возле заграждений из колючей проволоки, прямо у печально известной будки на улице Лимановского. Женщина лежала на спине, неестественно раскинув руки.
Двое немцев-часовых, нашедших ее, сначала решили, что женщина мертва — еще одна еврейская самоубийца. Но когда они наклонились убрать тело, оказалось, что женщина еще дышит. Часовые тщательно проверили ее одежду в поисках документов, удостоверяющих личность, но ничего не нашли. Жандармы крепко задумались. Так как документов не обнаружилось, они не могли с уверенностью сказать, жила женщина по еврейскую или по арийскую сторону проволоки; пыталась ли она бежать из гетто или, наоборот (что было вполне возможным — вспомните Завадского!), хотела преодолеть заграждение, чтобы проникнуть внутрь.
Посовещавшись с начальством, немцы решили отвезти женщину в контору старосты евреев: пусть там решают, кому заниматься делом дальше. Крипо потребовала у начальника караула рапорт за последние сутки — не сообщалось ли об исчезновении кого-нибудь из евреев. Были проверены книги записей в больницах, а также список пациентов психиатрической клиники на улице Весола, куда многие небедные жители гетто отправляли своих душевно или физически ослабевших родственников. Но о сбежавших или исчезнувших пациентах нигде не сообщалось. Так что можно было с уверенность утверждать, что женщина не пыталась покинуть гетто.
Одним из первых ее осмотрел «рабочий доктор» Леон Шикер. Рабочим доктором его прозвали потому, что он единственный из врачей гетто не брал с пациентов бессовестной платы и к нему на прием могли прийти даже простые люди. Шикер обследовал женщину и нашел ее «ослабшей и истощенной», но без признаков обезвоживания. Исцарапанная, потрескавшаяся кожа рук и голеней — возможно, женщина пыталась перелезть через какое-то препятствие. Других повреждений на теле не было. Горло не распухло. Температуры нет. Пульс и дыхание в норме.
Впоследствии некоторые намекали, что за те полчаса, что Шикер оставался наедине с больной, он успел «испортить ее». Естественно, другие это опровергали. Ясно одно: когда немецкие полицейские принесли женщину в Секретариат, она лежала на носилках совершенно спокойно, а через полчаса, когда доктор Шикер оставил ее, женщина тряслась в лихорадке и бормотала бессвязные молитвы на иврите и идише.
Некоторым даже показалось, что они слышат из ее уст обрывки слов пророка:
ashrei kol-chochei lo —
Ибо Господь есть Бог правды;
Блаженны все, уповающие на Него!
Новость о парализованной женщине и ее удивительных речах распространилась быстро. Председатель велел перенести ее в хасидское училище на Лютомерской, где о ней стали заботиться раввин по фамилии Гутесфельд и его помощник Фиде Шайн. Хасиды потом утверждали, что женщина еще раньше снилась ребе Гутесфельду. В его сновидениях она не была параличной, а, спотыкаясь, бродила по горящему городу от дома к дому. Она не поднималась в дома, а просто маячила возле мезузы, у дверного косяка — словно подавая жильцам дома знак выйти и следовать за ней.
В глазах хасидов в этом не было ничего необычного. Женщина была цадика, святая, может быть, посланница, которая после двух лет войны и страшной голодной зимы явилась даровать запертым в гетто евреям каплю утешения. Простые люди потом заговорили о ней как о Маре скорбящей. Она единственная в гетто с населением почти четверть миллиона жителей не имела постоянного адреса и хлебной карточки. Не оказалось ее и в списках крипо — а ведь в них была внесена каждая живая душа и статистический отдел Meldebüro обновлял их каждый месяц.
Вроде бы Мара была для раввината ценным приобретением, однако он охотно перепоручил заботу о ней ребе Гутесфельду. Видно, даже хасиды боялись оставить ее у себя; так что раввин с помощником двинулись по узким переулкам гетто с носилками, на которых лежала женщина. Фиде Шайн шел первым, а Гутесфельд, у которого подгибались ноги и который к тому же плохо видел, ковылял сзади в долгополом черном лапсердаке. Они могли пройти так несколько километров — в дождь, под ледяным ветром или в метель. Время от времени раввин останавливался, чтобы, касаясь пальцами каменной ограды или стены дома, попытаться прочитать, где они находятся, или чтобы дать Фиде Шайну (у которого были больные легкие) прокашляться.
Зачем они всё ходили и ходили? Почему не знали покоя?
Иные говорили — потому, что женщина никогда не бывала спокойной. Едва раввин с помощником ставили носилки, из ее горла вырывался страшный крик, и она принималась размахивать руками, словно отгоняя невидимых демонов. Другие говорили, что в каждом доме, в каждом квартале был тайный осведомитель, который не задумываясь отправился бы в крипо, если бы прознал, что женщина здесь. Какая участь ждала бы тогда скорбящую?
Однако в иные дни раввин возвращался с носилками в молельную комнату, и тогда у дверей собиралась бледная, но полная ожиданий толпа. Люди приходили в надежде, что прикосновение или взгляд параличной исцелит их больные руки или незаживающие раны или даже прогонит мучительный голод, из-за которого сильные и бодрые некогда люди двигались по улицам как привидения. Доктор Шикер, убежденный социалист, ненавидевший суеверия, пытался заставить полицейских из Службы порядка не пускать людей, но раввин упрямо твердил: в сновидениях ему были явлены толпы народа, и отказывать евреям, верящим, что Господь из Писания может сотворить чудо через одного из своих посланников, пусть даже явившегося из неизвестного далёка, — кощунство.
Среди прочих в толпе была Халя Вайсберг, соседка Адама Жепина по дому на Гнезненской и мать Якуба и Хаима, проводивших дни в поисках деревяшек и угольной пыли у старой обжиговой печи на Лагевницкой. Халя прослышала новость о чудотворице Маре от своей подруги Борки из Главной прачечной, и уговорила мужа Самюэля, больного легкими, сходить к этой женщине.
Первое время в гетто не было пешеходных мостов; каждое утро немцы открывали в заграждении проход рабочим, которые, подобно Самюэлю, шли из одной части гетто в другую, на рабочие места. Ворота открывались в строго определенное время, и к открытию надо было успевать. Самюэлю казалось, что он всегда последним перебегает улицу, прежде чем часовые вернут колючую проволоку на место, и однажды утром он действительно оказался последним из выходящих; не успев осознать, что происходит, он очутился в одиночестве посреди «арийского» коридора, а гетто с обеих сторон закрылось.
Был какой-то изощренный садизм у этих скучающих немцев, не имевших другого занятия, кроме ежедневных манипуляций с колючей проволокой; и каждый раз, когда им удавалось поймать в «коридоре» какого-нибудь еврея, они испытывали чистую незамутненную радость.
Самюэль споткнулся и упал; один из полицейских несколько раз ударил его прикладом по спине и пояснице, после чего пнул в грудь носком окованного железом сапога, чтобы заставить подняться. Когда по дороге снова пошел транспорт, немцы подхватили полубесчувственное тело и поволокли через колючую проволоку. Спустя какое-то время Самюэль снова мог двигать руками и ногами, но отпечаток полицейского сапога, словно рабское клеймо, остался у него на левом легком. С появлением мостов едва ли стало лучше.
Каждый шаг вверх отзывался удушьем, каждый шаг вниз — при возвращении — давался так же мучительно. Сорок семь ступенек вверх, сорок семь ступенек вниз. С каждой ступенькой в свистящем, разрываемом болью легком оставалось все меньше воздуха. Спускаясь, он останавливался, обливаясь потом, с дергающимся, как у угря, телом, перед глазами было черно; но сквозь пелену голода снова слышался тяжелый, окованный железом голос часового:
— Schnell, schnell!..
Beeilung, nicht stehenbleiben!..
Если бы господин Серванский из столярной мастерской на Друкарской не знал о Самюэлевых больных легких, он бы наверняка уволил его — и что бы тогда стало с семьей? Халя думала в первую очередь о себе. В гетто было полно мужчин, которых жернова голода перемололи до неузнаваемости и которые сейчас лежали дома, бледные, с остановившимся взглядом, пока их женщины бились, чтобы прокормить семью.
Утром блеклого, холодного и сырого зимнего дня Халя Вайсберг с мужем Самюэлем пришли к молельне хасидов; туман висел над гетто так низко, что все три моста, казалось, ведут прямиком на небо. В то утро в задней комнате царил хаос. Полицейские из Службы порядка, обычно охранявшие фабрики, изо всех сил сдерживали людскую массу, которая волновалась у дверей, увеличиваясь с каждой минутой. С полдюжины женщин сумели протолкаться к носилкам и нависли над параличной, держа на руках своих больных детей.