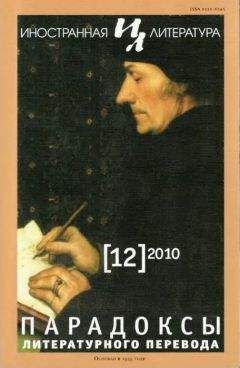Роза все это знала. На то время, пока отец проходил через комнату, она застывала совершенно неподвижно и видела себя его глазами. В эти минуты она тоже ненавидела самое пространство, занятое ее телом. Но стоило отцу выйти, и она приходила в себя. Она снова погружалась в собственные мысли или в глубины зеркала, у которого в том возрасте проводила много времени, нагромождая волосы в высокую прическу, поворачиваясь боком, чтобы полюбоваться линией бюста, или оттягивая кожу у висков, чтобы увидеть себя с раскосыми глазами — самую малость, зазывно раскосыми.
Она прекрасно знала, что чувства отца к ней этим не исчерпываются. Знала, что, вопреки почти неудержимому раздражению и мрачным прогнозам на ее будущее, он гордится ею; правда — вся, окончательная правда — заключалась в том, что он не хотел бы видеть ее иной и желал, чтобы она была такая, как есть. Во всяком случае, отчасти желал. Разумеется, он вынужден был постоянно отрицать это. Из смирения — и из духа противоречия. Противоречивое смирение. Кроме того, ему надо было делать вид, что он почти во всем согласен с Фло.
Роза на самом деле не обдумывала все это так подробно и даже не хотела обдумывать. Ей было так же не по себе, как и отцу, от того, насколько они созвучны друг другу.
* * *
В тот день Фло сказала, когда Роза вернулась из школы:
— Хорошо, что ты пришла. Тебе придется остаться в лавке.
Отца надо было везти в Лондон, в больницу для ветеранов.
— Зачем?
— Не спрашивай. Доктор велел.
— Ему что, хуже?
— Не знаю. Я ничего не знаю. Этот болван-доктор говорит, что нет. Он пришел сегодня утром, осмотрел его и сказал, что надо ехать. Хорошо, что у нас есть Билли Поуп, — можно его попросить отвезти.
Билли Поуп приходился Фло кузеном и работал в мясной лавке. Одно время он жил прямо на бойне, в двух комнатушках с цементным полом, и пахло от него, естественно, требухой, кишками и живыми свиньями. Но, видно, он был домовит от природы: он растил герань в старых жестянках из-под табака, на широких цементных подоконниках. Теперь он поселился в квартирке над мясной лавкой, скопил денег и купил «олдсмобиль». Это произошло вскоре после войны, когда покупка машины была громким событием. Придя в гости, Билли все время подходил к окну и говорил что-нибудь такое, чтобы привлечь внимание, вроде: «Сена она почти не ест, но и удобрений от нее не дождешься».
Фло гордилась и им, и машиной.
— Видишь, у него широкое заднее сиденье — на случай, если твоему отцу надо будет прилечь.
— Фло!
Это отец позвал. Когда он слег, то первое время звал Фло очень редко, и то робко, словно извиняясь. Но потом преодолел робость и стал звать ее часто. Она говорила, что он специально выискивает предлоги, чтобы заманить ее наверх.
— Интересно, как бы он без меня справлялся? — говорила она. — Пяти минут покоя мне не дает.
Она как будто гордилась этим, хотя часто заставляла отца ждать. Иногда она подходила к подножию лестницы и заставляла отца выкрикивать подробности — зачем именно она ему нужна. Она рассказывала покупателям в лавке, что он не может оставить ее в покое даже на пять минут и что она вынуждена менять ему постель дважды в день. Это была правда. Постельное белье отца промокало от пота. Поздно вечером Фло, или Роза, или они обе дежурили у стиральной машины, которая стояла в дровяном чулане. Иногда Роза видела пятна на нижнем белье отца. Она не хотела смотреть, но Фло извлекала белье, размахивала им, едва ли не тыча Розе в нос, кричала: «Погляди-ка!» — и цокала языком, устраивая целый спектакль неодобрения.
В эти минуты Роза ненавидела ее. И отца тоже. Его болезнь. Нищету или экономность, из-за которой они не могли сдавать вещи в прачечную. То, что их жизнь не была защищена решительно ни от чего. Уж об этом Фло заботилась.
* * *
Роза осталась в лавке. Покупатели не шли. На улице ветер швырялся песком, снег давно уже должен был выпасть, но все никак не выпадал. Роза слышала, как ходит наверху Фло — отчитывает, подбадривает, одевает отца. Наверно, укладывает его чемодан, ищет нужные вещи. Роза положила на прилавок учебники и, чтобы отвлечься от домашних звуков, принялась читать рассказ из английской хрестоматии. Рассказ писательницы Кэтрин Мэнсфилд назывался «Прием в саду». В рассказе действовали бедняки. Они жили в проулке, который начинался на том конце сада. К ним проявляли сострадание. Все прекрасно. Но Розу этот рассказ рассердил вовсе не так, как должен был по замыслу автора. Роза не могла понять, отчего сердится. Но, видимо, ее чувства как-то были связаны с уверенностью, что Кэтрин Мэнсфилд никогда в жизни не заставляли смотреть на чужое загаженное белье. Пускай ее родственники вели себя жестоко и легкомысленно, но акцент, с которым они говорили, не вызывал отторжения в обществе. Сочувствие Кэтрин Мэнсфилд к беднякам покоилось на облаках материального благополучия, о котором сама писательница, возможно, сожалела, но Роза не могла уважать такие чувства. Она уже начинала презирать бедность, и это пройдет у нее лишь спустя много лет.
Она услышала, как в кухню вошел Билли Поуп и бодро закричал:
— Вы, наверно, все хочете знать, куда я подевался!
У Кэтрин Мэнсфилд наверняка не было родственников, которые говорили бы «хочете».
Роза дочитала рассказ. И взяла «Макбета». Она выучила некоторые монологи из этой пьесы. Она часто учила наизусть отрывки из Шекспира и стихи сверх того, что задавали в школе. Декламируя их, она не воображала себя актрисой, играющей леди Макбет на сцене; она воображала себя самой леди Макбет.
— Я пришел пешком! — орал Билли Поуп наверх. — Пришлось ее отогнать, чтоб ею там занялись.
Он был уверен: все сразу догадаются, что он говорит про свою машину.
— Не знаю, что с ней такое. Не работает на холостом ходу, сразу глохнет. Я не хотел ехать в город, если с ней чего-то не в порядке. Роза дома?
Билли Поуп хорошо относился к Розе еще с тех пор, как она была маленькая. Он все время давал ей десятицентовики и говорил: «Подкопи денег и накупи себе корсетов». Тогда она была еще совсем худая и плоская. Это он так шутил.
Он вошел в лавку:
— Ну что, Роза, ты хорошо себя ведешь?
Она односложно буркнула в ответ.
— Над учебниками сидишь? Хочешь стать учительницей?
— Может быть.
Роза отнюдь не собиралась в учительницы, но после такого заявления от нее удивительно быстро отвязывались.
— Печальный день у вас сегодня, — продолжал Билли Поуп, понизив голос.
Роза подняла голову и холодно взглянула на него.
— Я про то, что твой папа едет в больницу и все такое. Но его там живо поправят. У них для этого есть все машины. И доктора хорошие.
— Сомневаюсь, — сказала Роза. Это тоже внушало ей омерзение — манера людей намекать на что-то и быстро давать задний ход. Увертки. Так делали, говоря о смерти и о сексе.
— Они его поправят, и он вернется домой к весне.
— Если у него рак легких, то нет, — твердо сказала Роза. Она никогда раньше не произносила эти слова вслух, и тем более их не произносила Фло.
У Билли Поупа сделалось такое несчастное лицо, словно она сказала что-то очень неприличное и он за нее стыдился.
— Нельзя так говорить! Ни в коем случае, ты что! Он сейчас спустится вниз, и что, если он тебя услышит?
Нельзя отрицать, что по временам Роза была счастлива своим положением. Суровое счастье: когда она не была слишком занята стиркой простыней и ей не приходилось прислушиваться к очередному приступу кашля. Она драматизировала собственную роль, думала о том, как она ясным взором видит будущее и ничему не удивляется, отвергает любой самообман, юная годами, но повзрослевшая от горького жизненного опыта. Именно с этим настроем она произнесла «рак легких».
Билли Поуп позвонил в автомастерскую. Оказалось, что машину починят только к вечеру. Решили, что вечером ехать не стоит: Билли переночует у них на диванчике в кухне, а утром вместе с Розиным отцом двинется в путь.
— Незачем спешить, я не собираюсь ради него прыгать, — сказала Фло, под «ним» подразумевая доктора.
Она вышла в лавку, чтобы взять банку лосося — сделать запеканку на ужин. Хотя Фло никуда не ехала и не собиралась, она надела чулки и переменила юбку с блузкой на чистые.
Пока Фло соображала ужин, они с Билли Поупом громко беседовали на кухне. Роза сидела на высокой табуретке и мысленно декламировала, глядя в окно лавки на Западный Хэнрэтти, на пыль, которую ветер нес по улице, и на сухие ямы, оставшиеся от луж:
…сюда придите,
На груди женские мои, —
пить желчь,
Не молоко![5]
То-то они подскочили бы, если б ей вздумалось прокричать эти слова в кухню.
В шесть вечера она заперла лавку. Войдя в кухню, она с удивлением увидела там отца. До этого она его не слышала. Он не разговаривал и не кашлял. Он был одет в свой лучший костюм — необычного цвета, какого-то маслянисто-зеленого. Вероятно, этот костюм когда-то продавался со скидкой.