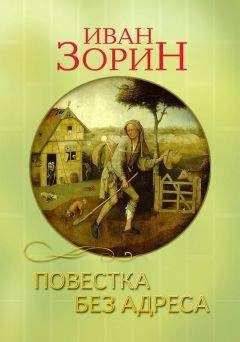— Да был ли Дрын? Может, Дрына-то и не было?
— А за кем же тогда тянутся убийства?
— Считайте, очередь разгружал… На тот свет.
— И которым в ней оказался Дрын?
Человек чуть не расплакался.
— Да они все — дрыны! От первого до последнего! Я их с детства терпел. Ах, уроки не выучил — ступай в угол! Наказываю тебя ради твоего же блага! Плохо работаешь, потому и мало получаешь! Вон, сосед жене машину подарил, а ты? Неделя прошла, что мне приятного сделал? И — дрын-дрын-дрын! А телевизор? Правительство работает в нужном направлении! Терроризм не пройдёт! Дрын-дрын-дрын! И все они ловят меня, хотят уничтожить, испепелить! Так уж лучше я их, а?
Громыхнув наручниками, человек погрозил стене.
— Самооборона?
— Отчаявшегося! У Дрына-то руки о-го-го, какие, где хочешь, достанет! А мои — только ножом и удлинишь. И меня же теперь чудовищем выставляют!
Человек закусил губу.
— А вы, значит, герой?
— Ещё бы, раз и за вас бился!
— Я уж как-нибудь сам… Вернёмся к Дрыну. К вашим «казакам-разбойникам».
— А чего к ним возвращаться? Я и теперь — разбойник, вы — казак. Или нет? Или вы не Дрын? Лучше я про очередь расскажу. Я долго их слушал, думал, умнее. А оказалось, прав Дрын — тупицы…
Человек уставился в угол.
— А жена тоже — Дрын?
— Конечно. Весь мир — Дрын. А ей по природе положено. И дьявол был женщиной…
— Был?
— Ну да. Он умер, не выдержав с нами конкуренции.
Человек вздохнул.
— А Бог?
Человек пожал плечами.
— Он развёл нас, как рыб в садке, чтобы пускать после смерти на Свои нужды. Вроде, как на органы…
— Что пускать? Душу?
— Да. Только душа со временем вся вышла! Вот и стали мы не интересны, вот и остались без присмотра. И развелись такие, как Дрын. Они, как домашние животные, без хозяина дичают…
Кабинет уже наполнил вечер.
— Забавный сон, — устало потянулся врач, отложив историю болезни. — Любопытная персонализация зла. И сколько же раз вы убивали Дрына?
Человек в больничном халате проглотил слюну.
— Не считал, много.
— А в себе?
— В себе?
— Ну, да.
— Эта мысль мне не приходила…
— Рано или поздно пришла бы. А за ней — и суицид. Так что вы вовремя обратились к нам, Агафон Дрын.
Эта история произошла в семидесятые, когда сквозь железный занавес проникали фрейдистские идеи. Сеанс психоанализа по-московски представлял собой странную смесь оккультизма, постельных откровений и житейской мудрости. Однако на кухнях с немытыми окнами и прокуренными стенами многие стремились попробовать этот запретный плод. В том числе, и супруги Шифман. Аркадий был инженером, простаивая за кульманом, вычерчивал сложные механизмы. В застиранных, вечно мятых брюках, с портфелем, у которого давно сломался замок, он казался школьником, провалившим экзамены. Он слегка заикался и на людях больше молчал.
Сара была его противоположностью. Зарплаты школьного логопеда едва хватало, чтобы свести концы, но жизнь в ней била ключом. «Будем делать ремонт!» — объявляла она. И Аркадий, равнодушно кивнув, двигал мебель. Но шло время, сгрудившиеся шкафы неприкаянно стояли посредине комнаты, а стены лупились в ожидании обоев.
И постепенно всё возвращалось на прежние места.
Отсутствие детей придавало их браку трагический оттенок. Сара устраивала жизнь подругам, Аркадий искал развлечения на стороне.
Они жили в огромном мрачном доме с тараканами и забившимися по квартирам жильцами. Принимали радушно, с той наигранной театральностью, которая с годами вырабатывается у супругов. «Ну вот, зайка, — сюсюкала Сара, обращаясь к мужу, — ты опять неправильно произносишь "рэ"». Аркадий отворачивался, демонстрируя обиду, которой на самом деле не было. За столом, опасаясь молчания, супруги заводили пустяковые споры, предлагая гостю выступить судьёй, а, примирившись, доставали карты.
В группу, занимавшуюся психоанализом, Шифманы попали благодаря шапочному знакомству, которые во множестве водила Сара. Зимним вечером поехали на окраину, поднялись по мёрзлым ступенькам, на которых Аркадий едва не подвернул лодыжку, и, постучав, попали в тесную прихожую, где на вешалке громоздились пальто. Их встретил лысоватый мужчина лет сорока, весь в морщинах. Открыв спиной дверь, пригласил в комнату, где собралось уже несколько пар, и предложил самим налить чай.
А за столом объявил себя проводником в их подсознание.
За глаза они звали его гуру. «Вам нужно раскрепоститься, — вздыхал он, ощупывая водянистыми глазами. — А этому учатся». И они учились. После второго занятия договорились говорить правду. Всю правду, без утайки и лицемерия, обычного между мужчиной и женщиной. «Ложь рождает напряжение», — внушал гуру. И Шифманам захотелось испытать недоступную раньше откровенность. Им верилось, что она смоет рутину, избавит от серости, скуки, тараканов, пьющих соседей и завистливых сослуживцев. Они надеялись разомкнуть привычный круг, повторяя за гуру, что всё останется прежним, а их взгляд изменится. Обсуждая отвлечённые материи, они ругались, не подозревая, что скрашивают чужое одиночество, не видели пустых бутылок в кухонном шкафу, не догадывались, что гуру нуждался в них больше, чем они в нём.
Но всё действительно перевернулось. Куда делся робкий, застенчивый Аркадий с засаленными рукавами и виноватой улыбкой? «Вот что, де-етка, — говорил он нараспев, — подай-ка гостям та-апочки. — Сара застывала. — И по-обысрее, дорогуша, коридор не место для мужчин».
Это были первые плоды их договора. Аркадий теперь подолгу обсуждал феминизм и, прикрыв рот ладонью, шептал, что устал жить под каблуком. А потом, заразительно расхохотавшись, хлопал собеседника по плечу. Сара становилась плаксивой, казалось, она вот-вот сломается. «Настоящие мужчины не говорят, а делают, — неуклюже поддевала она мужа. Или, всплеснув руками, ошарашивала: — Он давно не устраивает меня в постели!» При этом краска заливала её некрасивое лицо, и было видно, что на самом деле постель ей безразлична. Они не сдерживались, со страстью выкладывая всю правду, и их колкости делались всё язвительнее.
— Не бабничай! — шипел Аркадий, когда Сара вечером висела на телефоне. — От сплетен толстеют!
— Не обращай внимания, — жалила в трубку Сара. — Муж бесится.
На занятиях с гуру обсуждали любовь, правду, долг. Начинали вяло, но когда вспыхивали старые, давно забытые обиды, спорили до хрипоты.
А гуру жадно слушал с блестевшими, как у шакала, глазами.
— Умерла? — шутил Аркадий, когда тёща не брала трубку, и Сара менялась в лице.
— Я вышла не по любви! — платила она той же монетой, повторяя это до тех пор, пока сама не поверила.
Листая сонник, она заставляла Аркадия копаться в её снах. Отказать он не смел. Но в отместку предлагал свои. Узнавая чужие тайны, они стремились слиться, став не одной плотью, а одним сознанием. С каким-то сладостным упоением они рассказывали о мысленных изменах, совершённых с прохожими, сослуживцами, киноактёрами. Открывать тёмные чуланы стало для них наслаждением.
— Я бы тысячу раз тебя бросила, если бы не страх остаться одной! — раскрасневшись, признавалась Сара.
Аркадий вымученно улыбался.
Как и многие, я перестал у них бывать. А вскоре обстоятельства вынудили меня уехать. Когда я вернулся, то случайно встретил нашего общего знакомого. Шёл дождь. Мы стояли под козырьком магазина. Я спросил про Шифманов. «Они разошлись: Сара ударила Аркадия ножом…»
Она рылась в помойном баке, угловатая, неказистая. Едва дотягиваясь до острого края, шевелила мусор суковатой палкой. Когда задевала за стенку, железо издавало глухой стон. Улица, прохожие, запах гнили — ничто её не смущало. Старуха покрылась красными пятнами, седые пряди лезли из-под платка. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». За какие грехи? Старуха не размышляла. Она доставала клюкой отбросы, мысленно примеряла вылинявшие тряпки, по-женски перебирая их в воздухе руками, наклонив голову набок, точно вспугнутая ею ворона, метавшаяся теперь по берёзе. Старуха её не замечала. Она давно привыкла, что все в этом мире: и люди, и звери, и даже бездушные вещи гонят её, стараясь унизить, сжить со света. Коробки, газеты, сломанная коляска. Старуха копалась на кладбище этих ненужных вещей — мертвец среди мертвецов, тень среди теней.
Холодно, осень, залатанные кофточки елозят одна под другой.
— Не шарь, Анюта, барахло одно…
Товарка с одутловатым лицом разрезала стаю грязных голубей. Из авоськи разноцветным ежом торчали стеклянные горлышки.
Но Анюта глуховата.
— Пойдём, я припасла… — в спину ей упёрлась бутылка.