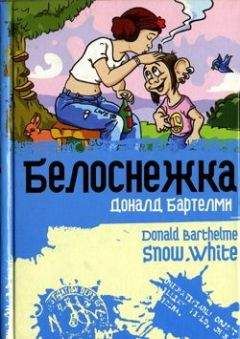– Тому, что мы делаем, недостает серьезности, – говорил Кевин. – Все слоняются кто где хочет со своими индивидуальными восприятиями. А они катаются, подобно разноцветным, разнообразным и разноформенным шарам, по зеленому бильярдному столу сознания… – Кевин замолк и начал снова. – Где фигура на ковре? Или это просто… ковер? – спросил он. – Где…
– Знаешь, ты несешь горбатину бизонью, – сказал Хьюберт.
Хьюберт ушел. Кевин остался один.
– Общение не пошло удачно. Может, я сказал что-нибудь не то? – Кевин неистово покраснел от мысли, что он мог сказать что-нибудь не то. На его шее появились густые красные пятна. – Как должен был я действовать, чтобы оно «пошло»? Что это за дар, присутствующий у других и отсутствующий у меня, который заставляет Другого захлебываться от любви, лишь только он тебя завидит? – Вся радость, бывшая у Кевина до общения, бесследно испарилась. До общения он был радостен, а после – нет. Господи, насколько же мы хрупки.
Белоснежка снова вывесила волосы в окно. Теперь они были длиннее. Их длина составляла около четырех футов. Вдобавок она только что вымыла их золотым «Преллом». Она испытывала некоторую степень гнева на мужское доминирование в вещном мире: «О если бы мне только попался человек, окрестивший эти электрические разъемы «папа» и «мама»! Он считал себя таким светским. И если бы мне только попался человек, назвавший этот кусок трубы штуцером! Он считал себя таким изысканным. Что, как вы можете заметить, отнюдь не помешало им бездарно провалить проблему бизонов. Куда подевались бизоны? Можно пройти и проехать мили и мили, и мили, и мили, и мили, и мили, и сотни миль, не встретив ни одного-единственного! И это отнюдь не помешало им допустить, чтобы железные дороги захватили все лучшие земли! И отнюдь не помешало им допустить, чтобы отчуждение просочилось везде и повсюду, накрыло весь мир чем-то вроде большого, серого одеяла с электрическим подогревом, которое не включается, когда передвинешь выключатель «вкл-выкл» в положение «вкл»! Так что не лезьте ко мне с обвинениями в несерьезности. Может, женщины и не слишком серьезны, но они хотя бы не чертов придурок!» Белоснежка вынула голову из окна и втянула внутрь свои длинные черные волосы, болтавшиеся прежде снаружи. «Никто не пожелал взобраться. Этим сказано все. Это время не для меня. Я не в моем времени. Что-то не так со всеми этими людьми, глазеющими и разевающими рты внизу. И со всеми теми, кто не пришел, чтоб хотя бы попытаться взобраться. Заполнить никем не взятую роль. И с самим этим миром, неспособным предоставить принца. Неспособным на элементарную учтивость – хотя бы предоставить этой истории правильную концовку».
Белоснежка допивала очередной стакан полезного апельсинового сока. «Отныне я откажу им в себе. В этих восторгах. Я буду поддерживать эстетическую отстраненность. Я не стану больше девически проскальзывать к ним в кровать ночью, или после обеда, или туманным утром. Да я и не проскальзывала никогда. Мой каприз и только он неизменно правил этими стадными встречами, столь точно соответствовавшими высказыванию Тита Ливия vae victis!.[19] Хоть здесь-то я могу себя поздравить. И не буду я больше шинковать им луковицы, варить им лапшу, мариновать им бифштексы из бочка. Не буду я больше гоняться им по дому за каждым пятнышком. Не буду я больше складывать им белье в аккуратные стопки и заталкивать его в комод. Теперь я не буду с ними даже разговаривать, разве что через третьих лиц, либо когда возжелаю объявить о чем-либо особенном – о новом нюансе моего настроения, о новом моем капризе, новой экстравагантной причуде. Я не знаю, что мне даст такая политика. Я даже не уверена, что так уж хочу ее проводить. Все это как-то пошло и гнусно. У меня внутренний конфликт. Но главная тема, красной нитью проходящая через мой мозг, – того, что есть, недостаточно. Откуда взялась эта гнетущая идея? Из библиотечного абонемента, не иначе. Возможно, этим семерым следовало оставить меня в лесу. Чтобы я там погибла, когда исчерпались бы все корни и ягоды, все зайцы и зяблики. Если б я тогда погибла, сейчас бы не думала. Но есть, конечно, будущее, в котором я погибну неизбежно. Это у меня есть. Мышление прекращается. Не вечно же нам суждено лежать, опираясь на локоть, в постели без четверти четыре утра и задаваясь вопросом, взаправду ли японцы счастливее своих свиноидных западных современников. Еще стакан апельсинового сока, только теперь, пожалуй, с чуточкой водки».
– Я в одиночку прикончил эту бутылку «шабли», – сказал Дэн. – И другую бутылку «шабли» тоже – ту, что под кроватью. И ту другую бутылку «шабли» тоже – ту, в горлышко которой воткнута коричневая свечка. И я не боюсь. Ни того, что может быть, ни того, что было. Теперь я закурю эту длинную сигару длиной от Мон Сен-Мишеля и Шартра до у подножия вулкана. Просто модное прейдет и просто новое прейдет, но не прейдет лишь то, как я себя ощущаю: все аналогии могут рухнуть, все режимы могут рухнуть, но то, как я себя ощущаю, пребудет. А ощущаю я себя покинутым. Когда весь день горбатился над чанами и мыл строения, хочется прийти домой и увидеть на столе баранью ногу в остром соусе, нашпигованную крошечными луковками, ну и, может, маленький горшочек вареной картошки где-нибудь неподалеку. А вместо этого я прихожу домой к этому ничему. Она сидит у себя в комнате, читает «Несогласие» и любуется в зеркало на свою фигуру. Она все еще любит нас в некотором роде, но этого недостаточно. Я чувствую, что это полный провал водительства. Мы снова остались на бобах. Истинное водительство заставило бы ее любить нас неистово и яростно, как в дни былые. Истинное водительство нашло бы выход из этого просака. Я устал от Билловых запинающихся оправданий, от его вечных посулов. Если ему не хочется быть вожаком, давайте голосовать. Вот это я и хочу сказать, но есть и кое-что еще: когда весь день горбатился над горячим чаном и приходишь домой, тебе не хочется слушать всякую горбатину от ссыкливого вожака, все водительство которого растерялось, как пуговки, от парня, который днями напролет витает в облаках, трескает капусту да рассматривает кораблики, пока ты горбатишься на работе. На работе с ее таблицами и графиками, с иерархическими отношениями, с ощущением важности того, что делаешь.
– Сдерживание эмоций порождает нервозность, – сказал Билл, окуная ковш в бочонок декадентского абсента. – Не забывай об этом. Ты, Хьюберт, всегда напряжен, как канатоходец. Если у тебя еще имеется возможность испустить тяжкий вздох, ты должен его испустить. Если из тебя еще может вырваться глухой стон, пускай он вырвется. Если ты еще можешь яростно стукнуть себя по лбу кулаком, дай кулаку волю. Кроме того, в старых книгах можно отыскать упреки и увещевания, прекрасно подходящие к данному случаю, – ознакомься с ними на досуге. Такое сцепление внешних и видимых знаков может, я подчеркиваю, может, сдетонировать внутренний незримый субъективный коррелят, что бабахнет в глуби нутра, как «Алка-Зельцер», после чего наступит спокойствие. Я подчеркиваю, может. И вы, все остальные, вы напрасно делаете вид, что это вас никак не касается, вы же как Хьюберт. Тот же самый недуг, то же самое лекарство. А что до меня, я тут вне игры. Раскооптировался, если угодно. Наскучив жизнью, полной эмоциональных фиаско, я стал подыскивать иные разновидности убожества, иные способы уничтожения. Теперь я ограничил себя тем, что слушаю людские разговоры и думаю: какое же это жеманство. Я питаюсь тонкими материями разума, созерцанием его круглосуточного балагана. Какой-нибудь языковый выверт, хромая несуразица – вот я и сыт. Если разобраться, это мне бы следовало быть монахом, а Полу – вашим вожаком.
– Мы подумывали об этом, – сказал Хьюберт.
– Ну и пусть, – сказал намертво вцепившийся в две сотни бутылок «Одинокой Звезды» Клем в «Аламо Чили-Хаусе», – ну и пусть я пентюх неотесанный в некотором смысле, и мои провинциальные взгляды противоречат более просвещенным взглядам моих коллег. Однако я заметил, что в вопросах кукурузной каши, свиного рубца или жареного сома они обращаются лишь ко мне. Только эти вопросы встают не так уж и часто. За все эти двенадцать лет я даже не понюхал жареного сома! Сколько вечеров я устало брел домой, почти ощущая во рту вкус жареного сома, и обнаруживал, что на ужин у нас жареные калимаретти или еще какая-нибудь восточная еда. Нет, я никак не хочу принизить эти нежные колечки кальмара, подрумяненные в оливковом масле. Мне даже нравятся квадратные консервные банки, в которых продают оливковое масло, их зеленая с золотом роспись, их затейливая эмблематика девятнадцатого века. От одного лишь взгляда ни эти банки у меня слюни во рту наворачиваются. Но почему я разговариваю с собой о банках? Меня удручают отнюдь не банки. Меня удручает жизнь в нашей великой стране, в Америке. Она мне представляется нищенской. Я не хочу сказать, что нищие ведут нищенскую жизнь, хотя они, конечно же, ведут нищенскую жизнь, но ведь и жирные ведут нищенскую жизнь. Ну да, кто-нибудь может сказать, что все они – горбомозглые, на чем вопрос и закроется. Но меня тревожит тот факт, что никто так и не откликнулся на волосяную инициативу Белоснежки. Хотя в то же время этот факт меня радует. Но из него почти однозначно следует, что американцы не могут либо же не хотят видеть себя принцами. Даже Пол, самый принцеобразный из наших современников, не среагировал подобающим образом. Конечно, нельзя исключать, что быть принцем не очень хорошо. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов нашу долгую демократическую традицию, коя антиаристократична. Эгалитаризм исключает принцеобразность. И в то же время наши люди отнюдь не равны ни в каком смысле. Они либо… Беднейшие являются рабами столь же безусловно, как галерники, прикованные к огромным деревянным веслам. У богатейших как на подбор физиономии холодных изнеженных гомосексуалистов. Те же, что посередке, пребывают в изумительном замешательстве. Перераспределить деньги. Я не говорю, что от этого сразу все улучшится, но улучшится хотя бы что-то. Перераспределить деньги. И способ тут может быть только один. Сделать богатых счастливее. Новая любовь. Новая любовь вдохнет в них новую жизнь, куда «богаче», нежели… Нужно провести закон, по которому браки всех людей, имеющих более чем достаточно денег, объявляются расторгнутыми с завтрашнего дня. Дадим свободу всем этим бедным денежным людям, позволим им включиться в игру наново. A quid pro quo[20] – их деньги. Мы забираем эти деньги и…