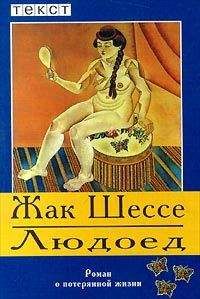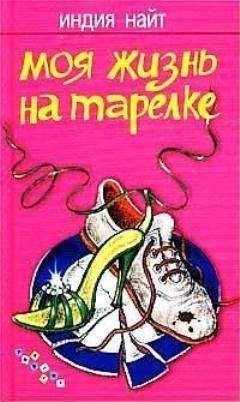«Что это за дьявольский заговор?» — спрашивал он себя. Ужасаясь, стыдясь своего жеста, он все-таки продолжал ощупывать палку. И вдруг, словно ему в ладонь ударил электрический разряд, отдернул руку и заперся в кабинке туалета. Через несколько минут он вернулся к Франсуа Клерку, который мирно почитывал местную газету.
Той ночью, лежа пластом в постели, весь в поту, Жан Кальме мучился тяжелым сновидением: зверь, похожий на быка, свирепо кидался со склона травянистого холма на все, что двигалось вокруг. Да, это был африканский буйвол; он видел его неясно, но притом почему-то знал, что глаза зверя налиты кровью, острые рога изогнуты, как лира, а туловище странно расплывается в желтый шар, который при каждом наскоке становится твердым и наносит страшный удар жертве. Жан Кальме, в свой черед, попробовал взобраться на вершину холма.
И всякий раз рогатый шар обрушивался на него и безжалостно отшвыривал прочь. Жан не кричал. Но тут к нему подбиралась стойка для зонтиков и, обхватив шею, душила в своем заржавленном кольце… Он проснулся, словно от толчка: его отец сидел в кресле напротив кровати!.. Но нет, это была всего лишь груда папок, а сверху стояла фотография времен прошлых каникул. Вскочив было в паническом ужасе, он тут же пришел в себя и снова лег в постель, теперь уже без всякого удовольствия. И тут ему вспомнилось прохладное благолепие колумбария Монтуа. Тотчас же в ушах Жана Кальме зазвучало сладкое голубиное воркование. Легкий трепет перьев. Птичьи ласки в теплых золотистых ячейках. Пушистые объятия, трепетные ухаживания, притворное сопротивление, наскоки, бегство, атаки, увертки, смешные прыжки, шелковистый шорох крыльев, мелькание кораллово-розовых лапок, удары острых серебристых клювов, нежные поцелуи, ссоры и примирения. Любовные игры…
Склеп просыпался. Мертвецы разом восставали из пепла. Среди них были мягкие, добрые, нежные, как сладострастные голуби его ночных сновидений. Были и другие — жестокие.
Надсмотрщики. Изобличители. Были и просто белые неясные формы, поднявшиеся из своих урн наподобие гигантских солитеров, и Жану Кальме хотелось выть от жалости при виде этих фосфоресцирующих смутных призраков, увенчанных до ужаса знакомыми головами.
Затем он снова погрузился в сон. На сей раз он увидел дымок, курившийся над очагом в центре озаренного солнцем мавзолея с небесно-голубым куполом. Он шел по какой-то равнине со множеством рек, и его взгляду то и дело открывались школьные дворы, полные подростков, не знающих усталости. Потом вдруг он опять встретился с разъяренным быком. Тот, как всегда в его снах, стоял на вершине холма, под которым разверзалась не то трещина, не то пропасть; его гигантская масса внезапно обрушивалась на Жана Кальме, который знал, что должен перенести это испытание с юмором и стойкостью, внушенной богами. Богами, которые бдительно следят за счастьем маленьких людей, от черного брега их злополучия до белого брега, где нестерпимо ярко горит остро отточенное лезвие.
Зачем приняли меня колена?
Зачем было мне сосать сосцы?
Книга Иова, 3, 12
Наступило Рождество.
Жан Кальме нашел себе убежище.
Он укрылся в размеренной жизни своей семьи, в ее прочном укладе, в странно теплом Лютри, в беспокойной любви матери, в музыке, трапезах, колокольном перезвоне. В доме, по давней традиции, нарядили елку. Были сестры и братья, и возбужденные крикливые племянники, и меланхолические радости подарков, и глаза, блестящие от слез в мерцании рождественских свечей. Был пустой стул отца. Были высокие часы в гробоподобном футляре за спиною призрака.
Наступило 31 декабря.
Жан Кальме лег в постель.
На следующее утро он прогуливался по берегу озера. Его слегка мутило от тлетворной мягкости земли, разогретой зимним, но ярким солнцем. В садах цвела мимоза. Сквозь теплые, слегка запотевшие стекла оранжерей виднелись гвоздики, бегонии, цикламены — красноватые пятна, пугающе похожие на окровавленные комки ваты, которую прижимали к порезу. Пальмы гордо высились под синими небесами, среди елей и оголенных платанов. По аллеям неспешно прохаживались гуляющие. На набережной Лютри посетители кафе уже пили аперитивы на открытых террасах, и женщины призывно улыбались пухлыми, сочными губами, какие бывают у них по весне.
Проведя несколько дней в «Тополях», у матери, Жан Кальме вернулся пешком в Лозанну.
По дороге он размышлял о старом доме, укрытом под сенью деревьев. Какая тишь царила сегодня в просторной, залитой солнцем комнате, где его мать теперь одиноко проводит дни между часами в высоком футляре и озером, мерцающим у савойского берега. Его пронзила нежная жалость к маленькой серой женщине, убитой горем и растерянной, которая неслышно, как мышка, семенила от кухни к своему креслу, осторожно наливала себе чай и грызла соленую соломку, извиняясь за звук: ох уж эта новая искусственная челюсть, никак к ней не приспособиться!
Он никогда доселе не знал ее, эту женщину. И до чего же ему теперь было жаль ее! Она ведь также — нет, куда больше, чем другие! — страдала от гнета тирана, который сломал, изничтожил ее. Она молчала об этом. Но ее скорбная улыбка о многом говорила. Ни разу в жизни она не пожаловалась на доктора, который ушел, бросив ее опустошенной, как город после вражеского набега, И теперь у нее остались только альбомы со старыми фотографиями.
Она не плакала. Просто сидела в своем кресле, с альбомом на коленях, устремив застывший взгляд в окно, где ей виделось не настоящее, а призраки, населявшие ее прошлое. Жалкая судьба одинокой самаритянки. Сестра милосердия, забытая в дальнем углу покинутого госпиталя. В эту минуту на Лютри спускались сумерки, и она, верно, сидела на своем обычном месте, перед остывшим чайником, под бьющими в глаза лучами закатного солнца, слепо глядя перед собой. Мадам Жанна Эме Кальме, урожденная Росье. Она родилась в деревенском захолустье у подножия Юра, служила на фермах, затем, покинув луга и коровники, стала служить его отцу. Жанна, мои очки! Жанна, мой саквояж! Моя трость! Мой кофе! Эти чертовы дети — ты даже не способна их воспитать как следует! Это чертова стряпня — не надейся, что я приду обедать. Но жди меня. Ты для того и существуешь, чтобы ждать меня, Жанна.
Твои руки мешали суп, жарили мясо, открывали бутылку вина, а я не приду. Куда захочу, туда и отправлюсь. Здесь я хозяин. Здесь я вскрываю животы, копаюсь в кишках, режу и зашиваю. Здесь я угрожаю, утешаю, врачую, подаю надежду, бодрствую, чтобы преградить доступ смерти. И пока я здесь, она не осмелится войти, бедняга! Стоит мне появиться, как она отступает, уползает в свою нору! А я режу и сшиваю, щупаю и вправляю, вырываю и приставляю, я неутомимый солдат, наемник, легионер здоровья; эй ты, старуха с косой, убирайся прочь, я тебя не боюсь! А вы, нытики злосчастные, оставьте меня в покое с вашими гонорарами и жалобными взглядами, тут я командую, я распоряжаюсь, я воюю со смертью, а ваше дело — ждать меня и слушаться беспрекословно. Жанна собирает со стола нетронутые блюда и в одиночестве ложится в широкую постель. Жанна проводит лето в ожидании доктора, который воюет со смертью Бог знает где. Дети возвращаются домой и снова уезжают, лето кончается, уступая место мокрой осени, озеро пахнет гнилой рыбой в преддверии зимы, Жанна готовится праздновать Рождество и Новый год, рассматривает старинные фотографии.
Жанна Кальме. Моя мать. Я был ее любимчиком, ее «младшеньким», ее утешением и радостью. Ее зеленой травкой. Глотком свежего воздуха. Но вот пришел мой черед, и я тоже сбежал из «Тополей». Надо будет почаще наведываться туда. Ее утешение. Ее радость. Я переживу ее. Она умрет в спальне, на широкой супружеской кровати — крошечная, затерявшаяся среди подушек, белоснежных подушек из ее песенки. Прощай, мама, прощай, юная нежная девушка из заснеженной горной деревушки! Тебя сожгут. И будут все те же цветы, все те же венки, что в сентябре месяце. И те же сочувственно-скорбные лица. И та же закуска в кафе «Покой» — белое вино, чай, булочки, а неделю спустя, в один прекрасный вечер, твои дети соберутся в «Тополях» за столом, вокруг каталога похоронного бюро, чтобы выбрать тебе урну. Прощай же, мама, кроткая обитательница суровых гор Юра; ты дрожала, идя в церковь, и небо рухнуло тебе на голову…
* * *
В январе начались занятия.
И педагогические конференции, и стопки тетрадей на проверку. Скучная школьная рутина.
Прошел месяц. Ничего нового. Затем наступило 21 февраля, и Жан Кальме встретил Кошечку.
И он понял, что на него снизошел дух Диониса.
Было пять часов пополудни.
С порога «Епархии» Жан Кальме увидел Кошечку, сидевшую на его любимом месте. Он шагнул было к ней, словно собирался подсесть к ее столику в уютном уголке, у окна, где всегда такой мягкий приятный свет. Кошечка! Она не смотрела на него. Но он тотчас нарек ее этим именем; так повелела неведомая магическая сила, мгновенно погрузившая его в таинственное и безумное ликование дионисийских мистерий. На незнакомке была желто-белая шубка кошачьего меха; распахнутый ворот позволял видеть путаницу ожерелий на груди. Ее волосы сияли под желто-белой вязаной шапочкой. Золотые волосы, бронзовые волосы. Она вязала что-то из белой шерсти, склонившись над своей работой, и несколько колец, которые она сняла, чтобы они не мешали, посверкивали камешками и темным серебром на красной скатерти, рядом с недопитой чашкой молока.