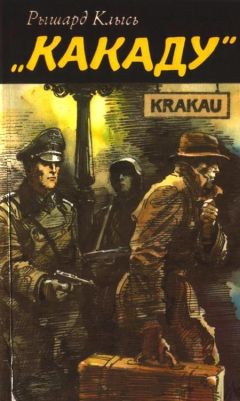Хольт, обращаясь к обеим женщинам, сказал:
— Я как раз говорил: как хорошо получилось, что мы встретились…
— Конечно, — согласилась Гертруда. — Вместе вам будет веселей.
Раубеншток дружески улыбнулся Хольту:
— Старина, признайся лучше, взял ты что-нибудь выпить?..
— Да. Не забыл. У меня с собой две бутылки мозельского…
— Браво!
— Ну, наконец-то, я вижу, ты доволен!
— Как подумаешь, что в казармы мы попадем под хорошим шафе, сразу легче становится. Знаешь, я тоже взял три бутылки.
— Но ты, надеюсь, не станешь утверждать, что сегодня еще ничего не пил?
— Едва понюхал…
Фрау Раубеншток негодующе посмотрела на мужа.
— Ну знаешь, Франц, — сказала она с возмущением. — Как тебе не стыдно так врать?!
— А что? — спросил он с миной невинного младенца. — Ты считаешь, что я вру?
— Еще как! — выкрикнула она и обратилась к Гертруде — Вы только представьте себе, Франц пьет беспробудно два дня. Даже по ночам. Я уже боялась, что это плохо кончится…
Раубеншток обнял жену за плечи и, склонив к ней голову, сказал шутливым тоном:
— Моя дорогая, мне уже ничто не может помочь, а тем более повредить — как покойнику…
— Прошу тебя, Франц, не говори так.
— Может, я не прав?
— Я не хочу, чтобы ты так говорил, — повторила она чуть не плача.
— Ни к чему говорить такие вещи, — подхватил серьезно Хольт. — Что это тебе взбрело в голову?
— Я, конечно, пошутил, — поспешно объяснил Раубеншток. — Это только шутка…
— Я так и подумал, — весело проговорил Хольт. — Не обращайте внимание на его болтовню. Он ведь известный шутник…
Фрау Раубеншток улыбнулась ему. Хольт вдруг почувствовал, что первоначальное настроение угнетенности и страха, от которых он не мог избавиться целый день, куда-то исчезло, и в эту минуту он уже чувствовал легкий подъем, какой у него бывал всегда на вокзале перед дорогой. Будущее уже не казалось ему таким опасным и безнадежным, каким представлялось до того, как судьба столкнула его с Раубенштоком. Эта неожиданная встреча снова наполнила его оптимизмом. «Не так уж все плохо, — подумал он. — Нас двое, и как-нибудь мы справимся. Это хорошо, что я его встретил. Вдвоем всегда легче».
— Кажется, подходит ваш поезд, — сказала Гертруда. — Да, это, наверное, тот поезд…
На перроне вдруг начался переполох. Женщины со слезами бросались в объятия мужчин, дети хныкали, испуганные внезапной переменой в спокойной до сих пор толпе. Во все нарастающем шуме возбужденных голосов уже ничего нельзя было понять, и люди совершенно перестали стесняться друг друга. Криками они выражали теперь озабоченность и испуг перед расставанием. Поезд с грохотом подошел к перрону. В эту самую минуту из мегафона раздался громогласный голос диктора, передающего сообщение, которое, однако, никто не слушал.
Хольт сначала попрощался с детьми, потом с плачущей и взволнованной женой Раубенштока и лишь потом с Гертрудой.
— До скорой встречи, моя дорогая…
— Прощай, Вильям…
— Почему «прощай»? — спросил он с вымученной улыбкой. — Скажи лучше «до свидания». Ведь это долго не протянется…
— Ты прав, Вильям, — неуверенно согласилась она. — Ну, значит, до скорого свидания…
— Я напишу тебе.
— Буду ждать письма…
Он торопливо поцеловал ее и стал протискиваться за Раубенштоком в вагон. Едва они успели сесть, как поезд тронулся с хриплым и пронзительным гудком локомотива. Хольту в эту минуту показалось, что он находится на борту тонущего судна, но такое чувство было не только у него — во всем вагоне вдруг воцарилась напряженная тишина. Они с Раубенштоком стояли у окна и, в нарушение правил, высунувшись из него, размахивали на прощание своими шляпами, которые вскоре заменят зеленые пилотки, а потом стальные каски.
Когда поезд миновал вокзал, они отошли от окна и сели на скамью в глубине вагона.
— Ну, с нами кончено, — буркнул Раубеншток.
— Интересно, куда нас везут.
— Я сам хотел бы это знать.
— Я боюсь только одного, — сказал тихо Хольт. — Чтобы нас случайно не зашвырнули на Восточный фронт…
— Ты думаешь, это имеет для нас какое-либо значение?
— Я предпочел бы иметь дело с цивилизованными людьми.
— О ком ты, собственно, говоришь?
— О большевиках.
— Не так страшен черт, как его малюют.
— Конечно, но я все-таки хотел бы оказаться на Западном фронте…
— Может быть, нам повезет, — буркнул Раубеншток. — Посмотрим.
— Встреча с американцами даже на войне менее опасна, чем с большевиками…
— Ошибаешься. Это тебе только так кажется.
— Американцы не любят воевать…
— А русские, по-твоему, любят?
— Не знаю, — возразил Хольт не очень уверенно. — Но они, говорят, вообще не берут наших в плен…
— А пропускают через мясорубки и делают консервы, — засмеялся Раубеншток. — Ты это хотел сказать?
Хольт оскорбленно посмотрел на Раубенштока.
— Не придуривайся, старина, — сказал он. — Тут не над чем смеяться…
— Ну, хорошо, а что они с ними делают?
— Расстреливают…
— Откуда ты знаешь?
— Говорят…
— В последнее время говорят все больше чепухи, — сказал неодобрительно Раубеншток. — Не стоит даже забивать себе этим голову…
— Но с американцами наверняка легче договориться.
— Откуда ты знаешь?
— Не знаю. Только предполагаю…
Раубеншток зевнул.
— Увидим, — буркнул он с неохотой. — Скоро убедимся на собственной шкуре, что к чему…
— Я боюсь… — признался шепотом Хольт. — Боюсь, что нас пошлют на Восточный фронт…
Раубеншток не отвечал. Хольт посмотрел на него и с удивлением заметил, что тот дремлет, свесив голову на грудь.
В казармы их привезли на рассвете.
Не прошло и шести недель, как их после непродолжительного, но очень интенсивного обучения снова погрузили в товарные вагоны и повезли; прошли ночь и день, а потом, ночью, поезд остановился на каком-то пустыре, им приказали выходить и молча погнали вперед в сторону изломанной линии горного хребта, откуда доносилось тяжкое грохотанье стреляющих без устали орудий. Поезд как можно быстрей отвели назад, чтобы уберечь от обстрела неприятельской артиллерии. Низко нависающий над землей, затянутый облаками небосвод освещался, словно в огромной кузнице, внезапными молниями орудийных залпов, а они, увязая по щиколотку в топкой грязи, все шли вперед мимо разбитых машин и трупов солдат, лежащих в придорожных рвах.
Вильям Хольт все время держался поближе к Раубенштоку, шел рядом с ним, потрясенный и совершенно разбитый этим кошмарным, словно из дурного сна, пейзажем. Он не мог избавиться от ужаса, какой вызывали в нем молнии, гром, непроницаемый ночной мрак, вязкая полевая дорога, хлюпающая под ногами, вся в огромных вымоинах, и эти трупы под дождем, мимо которых равнодушно шли живые.
Через два часа тяжелого марша они добрались до окопов передовой линии, извилистой и крутой, пролегающей среди горных хребтов. Им надлежало пополнить измотанные боем, обескровленные части. Еще этой ночью Хольту пришлось пережить особенно тяжкие минуты: неприятель при поддержке ураганного огня артиллерии атаковал их участок, а они, бормоча то проклятия, то молитвы, оглушенные криками убиваемых людей и трескотней автоматов, отчаянно отражали атаки врага, обрушивающегося в темноте на их позиции. Тогда ему казалось, что он не доживет до рассвета. Так он думал еще много ночей кряду, пока наконец, совершенно отупевший и нечеловечески уставший, не привык к такому положению, поначалу невыносимому для каждого новичка. Он примирился и с тем, что целыми днями ходил небритым, по неделям не снимал ботинок, что его жрали вши. Стал равнодушно относиться и к соседству трупов, которые не всегда убирали вовремя, и к тяжкому смраду человеческих испражнений в стрелковых окопах.
В эти необычные для него дни он ощутил горький вкус вынужденного героизма. Смерти он боялся панически, но упорно, так же, как и все его товарищи, держался на указанной ему позиции, лишенный воли и возможности решать свою судьбу. Наконец его ранили. Контузия оказалась не слишком опасной, но санитары отвели его на перевязочный пункт, там неожиданно обратили внимание на его короткую ногу и, к его изумлению, отослали на тыловые позиции, где приставили охранником к штабу дивизии.
Впервые с незапамятных времен он смог сменить белье, искупаться, побриться и спокойно написать пространное письмо Гертруде. Новую роль охранника он принял с радостью, хотя поначалу болезненно ощущал отсутствие Раубенштока и ему очень не хватало той дружбы, которая неожиданно завязалась между ними. Но, с другой стороны, сейчас, как никогда, важно продержаться, а в тылу он мог по крайней мере жить в относительной безопасности.