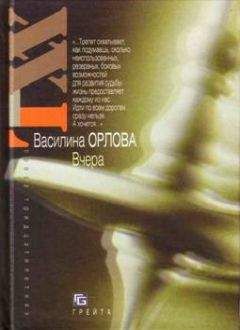Полуобморочный от науки студент заглатывает свой нехитрый харч, как удав. Весь харч — булка с неясными намеками на присутствие молотого мака. Вот как сейчас Дима Ветров. Лет этому удаву 25–30, но он от природной стыдливости держит в секрете свой возраст. В бытность свою юношей, по слухам, Дима учился на ветеринара. Недоучился, и наука потеряла подлинного натуралиста и дерзкого экспериментатора. Безо всякого содрогания он только что заглотил часть своего давно сдохшего «кролика». Оглядывает вторую половину псевдомаковой булки не то с недоверием, не то с сожалением — убывает.
Дима в генезисе. Чего-то воровато оглядывается по сторонам, словно в опаске, что кто-то собирается отнять любимого макового кролика. Столовая и точно — джунгли. Зазеваешься — враз налетят хищные знакомцы, тот ущипнул кролика, этот, глядишь — рожки да ножки.
Однажды Димчик спросил меня:
— Ты б вошла в один лифт с негром?
В тот день его, видимо, занимали сугубо этнические вопросы.
— Почему бы нет? — Изумилась я.
— Как? — В свою очередь не понял он. — Получается, и замуж бы вышла?
Довольный столь нестандартным обобщением, Дима заржал. И улетучился от греха подальше. Сейчас я вдруг сообразила, как за тот случай отомстить хлопчику. Надо будет взять видеокамеру и заснять, как в столовке Димочка поглощает плоть убитых негритят, перемазавшись шоколадной глазурью. При известном телемастерстве иначе истолковать сей клип будет трудно.
Вот глаза этого фага зашарили по сторонам, пока не запнулись на мне. Я приветливо улыбнулась. Дима Ветров поперхнулся. Уставясь в стол, торопливо дожевал останки булки и ушел, высоко под мышкой держа папку с бумагами. Я с сожалением посмотрела вслед. Мне стало жаль этого взрослого человека с его недоверием к неграм.
— Эй!
От неожиданности я вздрогнула. Не только я веду наблюдение, но и за мной наблюдают. Зоопарк.
— Чего крадешься встречь солнца? — Неприветливо киваю Ваньке.
— Извини, извини, — явно раскаиваясь, бормочет Иван.
Это у него приблуда такая, бормотать, как брахмапутра.
— Ничего, — я смягчилась, — как дела?
— Как сажа бела.
Это нормальный для Ваньки цвет сажи.
Иван — заметная личность на факультете. Он наш факультетский марксист, марксианин, мой добрый друг, ревнитель и идеологический наставник. Узнавая о Ванькиных большевистских убеждениях, народ неизменно изумляется:
— Коммунист?!
Птеродактиль — их удивляло бы меньше.
Такие Иваны сегодня редкость. Ваня жаждет справедливости. Вселенской. Его обвиняют, что погряз в постулатах, а он парит над болотом. Впрочем, мне кажется, он из породы оппозиционеров-маргиналов по самому глубинному своему духу, так что при социализме он стал бы монархистом. Такие люди не признают компромиссов и всякого рода «золотых середин».
Бывает, в пылу спора Ванька размахивает руками, шумствует, трясет гривой, походит на сосну под порывами сильного ветра: «Вы все слишком мало думаете о справедливом государственном устройстве и еще меньше для него делаете».
— Я тут набросал статейку, — Ванька трясет чубом с утопичной целью откинуть его со лба. Длинная черная челка тут же съезжает на глаз. — Может, ты статейку эту поправишь? У тебя, говорят, хороший слог.
— Лестью плату не беру. Борзыми.
— Понимаешь, то, что не видит талантливый автор, легко замечает бездарный читатель.
Хороший обычай — говорить полудоверительным тоном «понимаешь» и «знаешь ли». Когда это произносится особенно проникновенно, становится ясно, что покупают, но покупаешься.
— Хорошо. Давай. Полюбуюсь.
— Полюбуйся, — вздыхает Ванька, лезет в сумку и достает из всегдашней прозрачной папки плотно исписанные мятые листы.
— Статья в «Трудовую Россию». — Объявляет.
— Почем платют большевики?
— Катерина, — Ваня смотрит на меня, как на больную, — это партийная печать. У них самих денег нет.
Не очень-то верится в отсутствие денег у большевиков. А где золото партии? Между тем, Ванька в крайне затруднительном материальном положении. Обедает у знакомых по графику. Но от газеты борцу денег и вправду не надо: жаждет быть напечатанным на одной полосе с известными, по его словам, экономистами.
— Иван, у тебя здесь сказано: «Подобный идеализм просто-таки губит интеллигенцию, из мозга народых масс она превращается в кривое зеркало политической истории». Это как?
— Что — как?
— Ну, как ты себе представляешь превращение мозга в зеркало?
Ванька отмахивается:
— Главное дух передать…
Сижу, правлю. Через десять минут возвращаю марксисту статью, зажмурившись. Бить будет. Ванька читает правку, глаза лезут на лоб. К концу статьи заикается.
— Т-ты довела г-главную идею до дистрофичного состояния! Тебя просили стиль поправить, а ты?..
— Я только вычеркнула ругань.
— Без ругани они не воспринимают!
— Кто?
— Все эти интеллигенты, вся эта загнившая элита буржуазной субкультуры! Ты тоже зарекоммендовала себя как мелкая буржуйка.
Обзывательство «буржуй» в России оскорбительно с детства. Бандит — приятнее для нашего уха.
— Давай спокойно. — Злюсь я. — При чем тут «буржуйка»?
— Ага. При чем? При всем! — Немедленно взбудоражился Ванька. — Не хочешь осознать свое место в обществе. Не задумываешься, куда оно движется. Историческое движение неумолимо. Ты в обществе коммунистического будущего просто непредставима. Вид, обреченный на вымирание в процессе социальной эволюции!
Ну вот, по его мнению, птеродактиль — это я.
— Коммунизм все равно наступит. Вот увидишь. Вопрос в том, рано наступит или поздно. Может, и не увидишь. Это строй, при котором справедливость будет положена в основу всех отношений.
— Ваня, хватит пролиткульта и ликбеза.
— Господи! — Ванька всплеснул руками. — Ведь формулы давно известны. Все упирается в товарно-денежные отношения. Сколько сможешь работать, столько и будешь — в справедливом государстве. Единственный контроллер — твоя совесть. Получать всяческих материальных благ ты будешь так, чтобы не было недостатка.
— А у меня совести нет, Ваня. Мне надо всего много.
— Люди должны воспитываться в соответствии с нравственными принципами!
Вот и поговори с ним.
— Признаешь ли ты по крайней мере, — Ванька четко произносит слова, разбираясь с классовым врагом, — что современная жизнь, прежде всего государственное устройство, нуждается в изрядных переменах?
— Если настаиваешь…
— Вот спасибо, родная. Признала! Люди не получают зарплаты, пухнут с голода и мрут. А другие разъезжают на иномарках, жрут свою осетрину в ананасах и просаживают миллиарды, чтобы на следующий день получить эти миллиарды в том же обдолбаном казино. Заводы проданы за рубеж со всеми потрохами. Банки лопаются, как мыльные пузыри. Фабрики стоят. Торговлю разбил паралич. Через пару месяцев отнимут у студенчества стипендию. И никому, слышишь, ни-ко-му до этого нет никакого дела. Черт побери, ты сидишь тут, ресницами телепаешь! Думать-то когда будем?
— Ваня, заткнись! — Взрываюсь и я. — Ты покажи мне тот танк, под который я должна кинуться с гранатой, я кинусь. Или как еще можно поторопить приближение идеального общества?
— Свергнуть пьянь-президента и перестрелять всю мразь.
— Твое имя — не Вера Засулич?
— Жизненная правда за мной. — Сказал Иван, как отрезал. И добавил помягче. — Для гуманизма время не наступило. Кстати, если поконкретнее о том, что, мол, можно сделать сейчас, то завтра — демонстрация протеста. Пойдешь?
— Вербовкой занимаешься, Ваня. Подумаю…
Со всех концов Дударкова к клубу стекались красуни-дивчины и хлопцы бравые. Чинно, под ручку вышагивали и мы с Надюшей.
— Надько, — донесся сзади хулиганский голос. — Это кого це ты причепыла?
— Дуракам не отвечаю, — отвечала она полупрезрительно.
Я было высвободила локоть, но Надя одернула меня, шепнув:
— Не обертайся.
— Чего? — Тоже шепотом спросила я.
— Он такой, шо лучше и не обертаться.
Нас догнали. Этакий погрызенный подсолнух.
— Ни, кто це?
— Сашко! — Воскликнула я.
— Ой, шо робышь? — Досадливо дернула меня Надюша.
— Катя?..
Он раздался в плечах и посмуглел. Черты лица стали крупными, какими-то прямыми. Куда только делись пухлые щеки, которые некогда так удобно было щипать? Глаза прищурились, губы сжались. Только крепкая белая голова все та же. И я, как в детстве:
— Сашко, айда с нами.
— Та ни… — испуганно попятился он от моей руки.
Потом разом развернулся и… кинулся в подворотню.
— Шо с ним такое?! Удрал. — Дернула плечом Надя. — Так ты его знаешь? Откуда?
— Какая разница? А впрочем… Мы с ним с детства знакомы, он ведь сосед наш. Только действительно, что с ним?