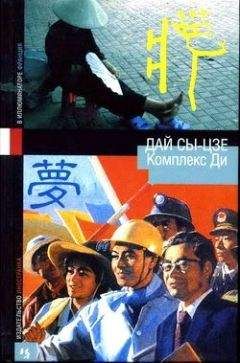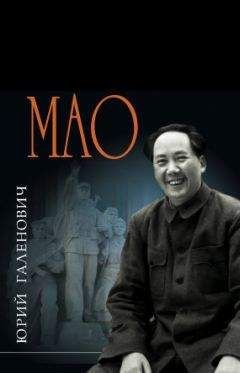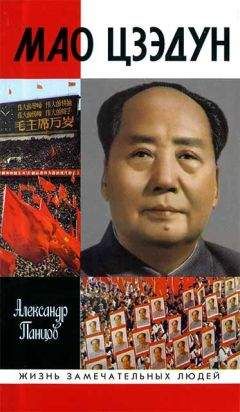— Не морочь голову, — сказал Марк.
Под вопли ипподрома лошади вырвались на финишную прямую.
— Победил «Лазутчик», — объявили по радио.
Соседи по трибуне боязливо посмотрели на меня. Я тихо, по-идиотски улыбался. Соседи отодвинулись.
— Пойдем получать деньги, — сказал я Марку.
— Зря ты поставил на два заезда, — сказал Марк. — Теперь совершенно невероятно, чтобы ты выиграл. А за одну лошадь денег не дадут. Это не считается.
В перерыве я приставал к соседям, как Авессалом Изнуренков из «Двенадцати стульев».
— Не правда ли, какие прелестные лошадки? — спросил я ханыгу с испитой рожей в синем драном плаще.
— Чего? — мрачно огрызнулся он.
— Скажите, пожалуйста, какую примерно скорость может развить конь, если он бежит во весь опор? — спросил я паренька, который, сплевывая и матюкаясь через каждое слово, рассказывал товарищам, сколько, сука, гад, он, падла, выиграл, сволочь, вчера, падла, на седьмом, сука, забеге.
Пока он сообщал мне данные о скоростных особенностях отечественных жеребцов, я думал о том, что, в сущности, мы живем странной нелепой жизнью. Какого черта я сижу здесь и убиваю золотое время? И как это грустно все время острить.
А потом я подумал о том, что мне уже двадцать пять. Что я ничего еще не сделал в жизни. Что единственное, чему я научился, — это молчать на собраниях. Что наша жизнь похожа на эти бега. Только не мы сидим в колясочках и управляем своими лошадьми, а кто-то сзади, кого мы не видим, сильной и умелой рукой направляет наш бешеный бег к финишу, смысл которого лошадям не понять. Мы бестолково летим по кругу, стараясь опередить мчащегося рядом соперника, а трибуна взирает на нас с жалостью и азартом, и свистит, и улюлюкает. А потом мы уйдем в свои стойла, и служители в белых халатах принесут нам овса. Наверное, тем, кто пришел первыми, они насыпят чуть больше и похлопают их по лоснящимся бокам, от которых идет терпкий и теплый пар. А потом они будут разговаривать о своих делах, о путевках в дом отдыха, о кинофильме «Великолепная семерка», о блондинке в первом ряду. А мы будем слушать и жевать свой овес, кося глазом в стойло соседа. А потом мы, сытые и довольные, соберемся в табун и будем вспоминать то время, когда мы были дикими необъезженными скакунами. Как легко и вольно мчались мы по своим прериям, как звонко и призывно ржали нам молодые рыжие кобылицы, как сладка и чиста была вода на водопое в ущелье Белых Туманов и как, наверное, здорово вырваться из наших обрыдлых стойл и помчаться по Москве, заставляя прохожих пугливо прижиматься к стенам домов и не обращать внимания на светофоры… А назавтра нас снова выведут на гаревую дорожку ипподрома. Надо работать…
Надо работать…
Начался второй забег. Я посмотрел на Марка и понял, почему он не поставил «на игру». Он боялся выиграть.
Вега шла под первым номером. Я безучастно проследил за тем, как она, вырвавшись вперед, легко и свободно первой пересекла линию финиша.
— Победила «Вега», — бесстрастно объявил диктор.
Марк молча посмотрел на меня.
— Пойдем, — сказал я, — наша игра сделана, ставки кончены.
Мы подошли к кассе.
— Сударыня, — сказал я, — я выиграл.
— Я так и знала, — сказала кассирша, — несчастный вы человек.
— Почему это я несчастный?
— А потому, что теперь вы никогда не уйдете отсюда. Новичков всегда губило везение.
— Я же дал слово. Мы немедленно уходим из этой шараги, — сказал я.
— Я была бы счастлива…
И я поверил, что она искренна.
Я взял выигранные мною 45 рублей и пошел к выходу. По дороге ко мне подошел маленький потертый человечек и сказал:
— Вот видишь, я же говорил…
Я дал ему рубль.
— Прощайте, сударь, — сказал я ему, — никогда не давайте советов профессиональным игрокам.
Он с уважением посмотрел на меня и молча ушел. Мы вышли с Марком на Божий свет, на залитую солнцем Беговую, и я сказал:
— Марк, эти паршивые, даровые деньги жгут мою руку, мы должны немедленно избавиться от них. Я предлагаю пропить их сию же секунду.
— Идет, — отвечал он.
И мы вошли в ресторан «Бега» и сели за столик. К нам подскочил официант.
— Что угодно? — спросил он и вдруг осекся.
— То-то, то-то и то-то, — заказал я.
— И то-то, — добавил Марк.
— И еще то-то и две бутылки наипервейшего, наилучшего коньяка, — уточнил я.
— И маленькую чашечку кофе, — подвел итог Марк.
Когда все было выпито и съедено, я обвел глазами зал и вдруг почувствовал какое-то напряжение вокруг себя. Официанты подбегали друг к другу, перешептывались, глазами показывали на наш столик. Когда я встречался с кем-нибудь из них взглядом, они тотчас уходили.
— Что-нибудь еще? — спросил нас обслуживающий официант.
Я поднял глаза и узнал его. Это был один из тех, кто устроил скандал в «Марсианах». И все другие официанты тоже были они. И они сразу узнали меня. И ждали, когда я буду пьян.
— Пока ничего, — сказал я пареньку, смотря ему прямо в глаза.
— Мара, — шепнул я на ухо своему другу, — я очень, очень пьян, но мне совсем, ну совсем нельзя сейчас быть пьяным. Мы должны быть людьми. Потом я тебе все объясню.
Я отрезвел. Я в жизни не был так трезв.
— Здравствуйте, — сказал я официанту.
— Здравствуйте, — тихо сказал он. — Вы пришли за мной?!
И я увидел в его глазах страх. Это было отвратительно — он меня боялся! И я ничего не мог поделать с собой, я должен был до конца быть председателем Совета кафе «Марсиане». Я давно уже не был председателем, но перед ним я должен был быть им.
— Нет, — сказал я, — я не пришел за тобой. Я пришел в ваш кабак, чтобы показать вам, сколько может выпить мужчина и остаться трезвым, не терять свое лицо, не хулиганить, не бить посуду и людей. Быть человеком.
Во время этого монолога я ощущал себя гнусным ханжой, потому что я был пьян, потому что я врал, потому что я чувствовал свое превосходство над этим парнем, потому что закон был на стороне моей лицемерной добропорядочности, а он, этот парень, ничего не мог поделать с моей вонючей демагогией.
— А кроме того, — продолжал я, — я привел товарища, чтобы и он взглянул, как вы сейчас себя ведете, чувствуете ли раскаяние за тот ваш проступок. Верно, полковник?
Марк промолчал.
— Да так вышло… — сказал парень.
— «Вышло», — передразнил я. — Эх, вы. Сколько с нас?
— Сорок четыре рубля тридцать копеек, — прошептал он, совершенно оглушенный.
Мы расплатились и вышли на улицу.
— Марк, я пьян, как собака, держи меня, я сейчас свалюсь, — пробормотал я, когда мы твердой уверенной походкой вышли из ресторана и отошли за угол.
Я обнял моего друга за плечи, и мы заорали на всю Москву:
«Оружьем на солнце сверкая.
Под звуки лихих трубачей,
Дорожную пыль поднимая,
Проходил полк гусар-усачей…»
И прохожие не удивлялись, потому что в Москве никогда ничему не удивляются.
А у меня «на потом» остался только парашют. Ну что ж, когда-нибудь прыгну…
Я работал уже четыре года. Я полюбил свою типографию, привык к своим товарищам. Все нас спаивала общая беда — план. Мы все крутились в одном колесе, в одном ритме, когда тридцать первое число предыдущего месяца ничем не отличается от первого числа следующего. Мы знали одно — ежедневно надо дать столько рублей по валу и такое-то количество продукции. Мы хвастались друг перед другом цифрами и процентами. Мы увеличивали производительность труда и снижали себестоимость продукции. Мы внедряли новую технику и лаялись со слесарями. И вдруг я затосковал. Я затосковал по другому миру. Я хотел чистых воротничков и красивых галстуков. Я хотел покоя, безответственности и интересных разговоров о литературе и искусстве. Я устал выполнять план. Так бывает. Я сказал себе: для того, чтобы прожить интересную жизнь, я должен каждые четыре года менять профессию. Тогда я увижу новых людей, у меня будут разнообразные интересы, мне будет что рассказать детям и внукам.
… Я сижу в кресле. Ноги мои укрыты пледом. На моей голове — серебряное сияние. Мои внуки сидят рядом со мной. «Дедушка, расскажи, кем ты был в молодости». — «Ах, дети, — говорю я, — я прожил жизнь, полную прекрасных приключений и необыкновенных встреч. Посмотрите на эти фотографии, дети. Вот здесь я — со Львом Яковлевичем. Это мой первый учитель и начальник. Он был грубый и мудрый человек. Он горел на работе и требовал, чтобы мы тоже горели. Он влюбил нас в дело, он заставил нас понять, что дело — это главное, он был неистов и неотесан. Но он был человек. Он умер на работе. Он кричал на кого-то, а потом замолчал. Мы не любили, когда он молчал. Но на этот раз он замолчал навсегда. Он умер. У его гроба я сказал речь. Я сказал, что ураганная жизнь этого человека не прошла бесследно. Он живет. Я прочел стихи: