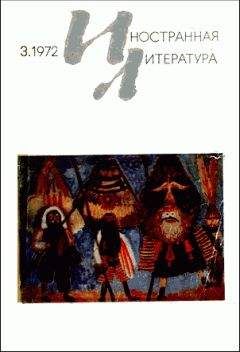Много размышляю я над тем, в чем допустил ошибку. Ведь по сути дела на интригу Л. я ответил более интенсивной работой — и в этом нет ничего плохого. Но беда в том, что моя работа в значительной степени утратила подлинный смысл. Мы часто говорили с тобой, дорогая (теперь я с невыразимой тоской вспоминаю те разговоры), о том, что с такой силой влечет меня к работе. Я говорил — это убеждение сохранилось у меня еще со студенческих лет, — что все то, что наше поколение усвоило со школьной скамьи, что я еще двенадцатилетним мальчишкой видел вокруг себя, о чем и раньше кое-что слышал у нас в Лупени (но, конечно, осмыслил все позднее) и что мы называем преобразованием мира, — все это самым непосредственным образом ощущается в моей работе. Я знаю, у нас это составляет суть любой работы, именно так социализм возвращает труду его подлинный смысл: ведь труд — это победа над материей, а социализм и обеспечивает условия для того, чтобы эта победа получила общественное значение. Но химия искусственных материалов — сама по себе творчество: создавать новые материалы, вносить коррективы в творения природы, более того, делать ее разнообразнее и богаче, получать нечто такое, чего она сама не может дать (это возможно в наших условиях, когда техническая революция становится органической частью социальной революции), — это замечательно! Было бы неверно утверждать, будто человек ясно осознает все это, но творческое начало какими-то путями проникает ему в душу, формирует его сознание. Так вот, именно это мое сознание претерпело изменения, поэтому я говорю, что моя работа утратила свой главный смысл. Я неустанно думаю о том, что будет со мной, если я потерплю неудачу? Будут ли доверять мне и впредь? Дадут ли новую работу в области экспериментальной химии?
Меня жуть берет при одной мысли, что было бы, если бы ты не остановила меня. Ведь теперь я знаю, что ты меня остановила. Тем, что ушла. Конечно, ты могла бы и не уходить, а как-то иначе уладить наши дела, впрочем, теперь уже говорить об этом поздно. Скорее всего после этой работы я, греясь в лучах полного успеха, взялся бы за какую-нибудь безделицу, за что-нибудь такое, что сулит сравнительно быстрый успех, который, разумеется, был бы замечен, — всего лишь ради того, чтобы избежать конфликтов, чтобы не болела голова, чтобы меня любили и уважали.
Как я дошел до жизни такой? Ведь все — правда, каждый по-своему — предупреждали меня. Я был тщеславен. Тщеславен и по отношению к тебе — к тебе особенно, как бы я ни тешил себя тем, что из такта и любви не хотел ничего говорить тебе. Нет, это не было недоверием, мне просто было стыдно признаться тебе, что я боюсь Л. Впрочем, тогда я и не хотел признаться в этом, выдвинув аргумент, что боюсь-де за исход нашей работы.
Теперь ты знаешь все.
Сможешь ли простить мне то, что я так отдалился от тебя? Веришь ли ты мне? Вот вопрос, с которым я ложусь спать и встаю, и если ты хоть немножечко любишь, не покидай меня. А надежда на то, что ты меня любишь, во мне не угасла. Помнишь — это было всего два месяца назад, — какой радостью светились твои глаза, какая счастливая улыбка озарила твое лицо. Не бойся слов — что поделаешь, кроме них у меня ничего не осталось, — признаюсь, вспоминая о твоей радости, я чувствую себя счастливым. Я мог бы писать о бессонных ночах, о гулкой тишине в квартире, но мне, как старикам (теперь я начинаю понимать их), лучше всего запомнился уютный беспорядок в комнате, тропинка на берегу Ойтоза, школьный зал, сутолока на главной улице; и всюду я вижу твое озаренное счастьем лицо с сияющими радостью глазами, с улыбкой на устах...
Сейчас я мог бы написать, что это я омрачил твое чело и стер с лица улыбку, и это действительно было бы банально. Но я отдаю себе отчет в том, что пишу. И если бы ты тоже поверила мне, тогда стиль, слова и фразы ничего бы не значили. Целую тебя.
■
Доброе утро! Вкратце расскажу сон.
Мы оба на каком-то космическом корабле, но не в одноместной кабине, в какой летали Гагарин или Титов, а в большой межпланетной ракете летели не то на Марс, не то на Венеру — точно не помню, да это и не важно.
В космическом корабле много людей, но что интересно — ни одного знакомого лица, хотя мы знали каждого. Я работал не химиком, а занимался какими-то другими научными исследованиями. Ты преподавала в школе, созданной на космическом корабле, — с нами летели двадцать или тридцать детей.
На нас были не герметические костюмы, а летняя одежда — на мне косоворотка, на тебе — легкое ситцевое платье. Так мы сидели в саду корабля, где небольшие кусты, зеленая травка и несколько клумб имитировали земной парк, позади была оранжерея.
Мы беседовали.
Отчетливо помню: обиженным, раздраженным тоном я упрекал тебя в том, что не смог найти тебя в Брашове, где была назначена наша встреча и откуда мы должны были отправиться на космодром. Затем я и впрямь жду тебя у Черной часовни, смотрю на свои ручные часы, вбегаю к вам — твоя мать говорит, что ты ушла десять минут назад, и я мчусь обратно. Постепенно смеркается, вокруг часовни тишина, на небольшой площади гулко отдаются мои шаги, в школе напротив звонит звонок, и площадь мгновенно заполняется детьми, уже и преподаватели расходятся, а тебя все нет. Может быть, ты ждешь в учительской, думаю я, спешу туда, но тебя нигде нет. Наконец, сталкиваюсь с директрисой. «Но ведь она взяла отпуск», — говорит директриса. Бегу на станцию в надежде найти тебя там, ведь скоро отходит наш поезд...
Обо всем этом я собирался рассказать тебе там, в саду космического корабля, и уж точно не помню, но, кажется, рассказал. Во всяком случае я снова все увидел и, сидя на скамье, с недоумением смотрел на тебя. Хотя мы уже давно в пути, мне все не верится, что мы вместе. Я спросил: «Можешь простить?» — «Это невозможно», — с грустью ответила ты... «Я не предам тебя, как тот, другой», — сказал я и попытался тебя обнять, но ты не позволила.
Ты: «Я поверила тебе, а ты оставил меня одну. Другой, по крайней мере, просто ушел, а ты обрек меня на одиночество и вместе с тем остался со мной. Нет ничего ужаснее одиночества вдвоем».
Я: «Но ты все же здесь».
Ты: «Это ничего не меняет. Я не могла отказаться от полета. Ты ведь знаешь, я уже давно дала согласие лететь...»
Я: «Мы оба дали согласие».
Ты: «Ты давно забыл об этом и полетел только потому, что испугался пересудов, если бы отказался от полета».
Глаза твои стали серыми, сросшиеся брови нахмурились, на лице снова появилось суровое выражение — следствие болезненной внутренней борьбы.
Я: «Еще не все потеряно. Ведь и в самом деле не поздно. Я никогда не забывал своего обещания. Веришь?»
Ты: «Не знаю...»
Я: «Ты не сможешь больше сбежать от меня в Брашов. Теперь мы здесь вместе, и так будет всегда. На земле мы можем сбежать друг от друга, но здесь, видишь, и в самом деле нельзя жить без эмоциональной культуры».
Ты: «Ты остался со мной и все же убежал от меня. Сейчас я здесь с тобой, но к тебе я не вернулась. На земле... На земле или здесь— безразлично. Потому что мы заперты вместе? Потому что нет станции, где бы можно было сойти?»
Я: «Полет продлится сорок лет».
Ты: «Эмоциональная культура? Сорок лет жить друг с другом без того, чтобы жить друг для друга?»
Я промолчал. Я сидел рядом с тобой на скамейке и смотрел на зеленые побеги, на клумбы. Потом вдруг все исчезло, мы очутились в своей квартире, в космической квартире. В ней все так, как обычно было у нас: красная скатерть на кривоногом столе, на эллипсообразном сервировочном столике (помнишь, как мы хохотали, когда узнали в магазине, что он называется «бубинго», и несколько недель так называли друг друга) маленькая статуэтка, радиола в углу — к чему перечислять все? Ведь ты еще не забыла, в конце концов сама обставляла квартиру, я только купил шторы... Хватит об этом. Какой ужасный беспорядок. Я расхаживаю по комнате, смотрю на часы — они стоят, времени уже нет, кто знает, как давно я жду тебя? В ванной комнате я бреюсь перед зеркалом, волосы у меня уже седеют, под глазами мешки, лицо все в морщинах. Полосатое полотенце, которым я пользуюсь после бритья, висит на вешалке, я вытираю им лицо. Зову тебя. Наспех одеваюсь и бегу в сад, сажусь на скамейку. Кто-то присаживается рядом.
«Кати!» — кричу я.
Это была не ты.
Я проснулся.
Было ровно пять часов. Встал, открыл окно. Закурил. Пошел на кухню сварить кофе. Затем сел писать. Сижу за столом, и мне вдруг вспомнился, не знаю почему, один наш вечер. Мы долго говорили о нем потом как о каком-то сне, может, он потому мне и вспомнился.
Помнишь, то была наша первая зима. Шел дождь со снегом. Возвращаясь домой из кино, мы шли, спотыкаясь, обходя рытвины. Дождь перестал, земля похрустывала у нас под ногами. Подмораживало. Ты озябла, я обнял тебя, и так мы шли дальше. Свернули в ту улочку, где тогда стояли еще деревенские дома (на днях я был в тех краях, улица заново отстроена, даже магазины открыты), из-за дощатого забора на улицу свисали ветви какого-то дерева. Капли дождя замерзли на густых ветках, казалось, дерево, вопреки зиме, зацвело — так сверкали на нем замерзшие капли дождя. Мы стояли под деревом, ветер заколыхал ветки, и дерево зазвенело тихим, но чистым перезвоном колокольчиков. Мы стояли как зачарованные и слушали.