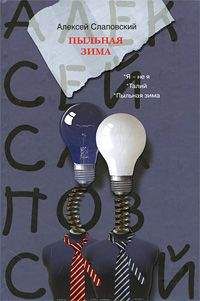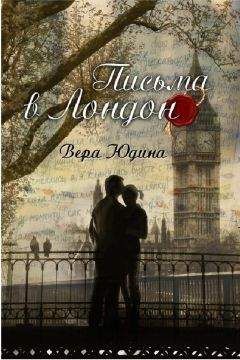Пришел малыш со словами: «Баба, чего ты трясешься, отними руки от лица, не трясись, а. Не психуй», — хлынули наконец радостные слезы из моих глаз, сухих ущелий, хлынули, как солнце сквозь дождь в березовом лесу, мой дорогой, мое солнце незакатное.
Как мертвый подставлял свое лицо бесчисленным поцелуям. Кожа бледная и светится. Ресницы густые и слипшиеся, как лучи, глаза серые с синевой, в бабу Симу, у меня глаза золотистые, как мед. Красавец мой, ангел!
— Ты с кем говорила?
— Не важно, мой маленький. Мой красивый.
— Нет, с кем?
— Я тебе сказала. Это взрослые дела.
— С Аленой? Ты на нее кричала?
Мне стало неловко перед ангелом. Дети все-таки воплощенная совесть. Как ангелы, они тревожно задают свои вопросики, потом перестают и становятся взрослыми. Заткнутся и живут. Понимают, что без сил. Ничего не могут поделать, и никто ничего не может. И я не могу подложить малышу эту свинью.
— А что ты кричала, что надо подмыться?
— Нет! Что ты! Я кричала, что надо наконец подмыть пол.
— Ты дура?
— О, я дура, мой ангел, я идиотка. Я тебя люблю.
Бесчисленные легкие поцелуи в щечки, в лобик, в носик, минуя рот. Детей нельзя целовать в рот. При мне в трамвае один вез, видимо, дочь из детсадика домой. И измучил ее поцелуями в рот. Я сделала ему резкое замечание через весь вагон. Он очнулся как от преступления весь малиновый и возбужденный, а дочь несчастная лет пяти уже совершенно скисла от смеха, от щекотки, потому что он еще ее и щекотал. Он очнулся и стал грязно меня ругать, глядя затравленными и обиженными глазами. Откуда ему было что знать? Он говорил то, что говорят: не лезь на хер не в свое дело.
— Посмотрите, до чего вы довели ребенка! Представляю, что вы с ней творите дома! Это же преступление! Вагон весь ощетинился, но против меня.
— Какое вам дело, старая вы (…)! Уже давно старая женщина, а туда же!
— Я, я желаю вашему ребенку только добра. За такие дела ведь сажают. Развратные действия с несовершеннолетними! Изнасилование детей!
— Дура на хер! Дура!
— И потом еще вы удивитесь, что она внезапно родит в двенадцать лет. И причем не от вас.
Слава Богу, он отвлекся на меня, он горит теперь другим желанием, задвинуть мне кулаком по харе. И может быть, теперь каждый раз, когда он захочет подвергнуть ласкам свою дочь, он вспомнит меня и переключится на ненависть. И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто! Однажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик: «Господи, что же это! Господи, что же это такое!» Женский сдавленный бессильный полукрик. Я тогда (пришел мой час) высунулась в окно и как рявкну торжественно: «Эт-то что происходит?! Я звоню в милицию!»
(Кстати говоря, милиция охотно ездит на такие случаи, где преступник еще тут: сразу стопроцентная раскрываемость! Это я знаю по опыту своих исследований.) Немедленно высунулись еще в одно окно, пониже, кто-то еще закричал, и буквально через две минуты я увидела, что издали бегут двое на помощь. Моя задача была его спугнуть, чтоб он ее бросил, ничего не успев.
— Да, да, товарищ, он здесь, сюда, вот в кустах! (несмотря на то что им еще было бежать метров сто).
И мгновенно он выскочил из кустов и умчался за угол. И тут женщина в кустах громко заплакала. Представляю себе ее ужас и омерзение, когда тебя душат зверски и бьют головой о стену.
Я сама с омерзением чувствовала на себе чужие руки, когда что-то затрепыхалось у моего бока в метро, как змея, настырно лезущая в кишки: грубо шарили у меня в сумке. Я обернулась и крикнула: «Это что же вы ко мне залезли в сумку!» И сразу три человека из моего окружения, смеющаяся женщина и два черных почти бритых мужика, стали быстро уходить, вместе с моим, тоже черным и бритым, и исчезли в толпе. Итак, мы побеждаем!
Нести просвещение, юридическое просвещение в эту темную гущу, в эту толпу! Воплощенная черная совесть народа говорит во мне, и я как бы не сама, я как пифия вещаю. Кто бы слышал мои мысли в школах, в лагерях, в красных уголках, дети сжимаются и дрожат, но они запомнят!
И плюс мое горе сидит всегда рядом со мной, я о нем забываю, а дети смотрят то на него, то на меня, воспринимая нас обоих как неизбежное одно целое. Семь рублей с копейками потом получу я, но три-четыре выступления плюс письма…
Есть ли силы, способные остановить женщину, которая стремится накормить ребенка. Есть ли такие силы?
Вот я выступаю в пионерском зимнем лагере, в эту неделю, спасибо Надечке Б., она мне дала два выступления. Мы едем, сбор у бюро пропаганды, там, сказали, покормят!!! Беру, как всегда, Тимофея. Собираться надо задолго, предстоит обычный скандал с одеванием.
И тут началось самое ужасное. Не самое ужасное вообще, а начало всего того, что последовало за этим. Звонок телефона, малыш кинулся первым и долго стоял, прижавши трубку к голове двумя ручками, не отдавая мне, известная манера, всегда кидается.
Он: Але! Але! Что? Кого? Анну кого? Але! Кого?
— Дай, дай, маленький. Дай бабе трубочку.
— Да погоди ты! Ничего не слышу! Что, але! (пауза)
Положили трубку.
Я: Никогда! Слышишь? Никогда…
Опять звонок. Борьба. Я выхватываю трубку, он взревел и стукнул меня ножкой по голени. Какая боль… Я отбрасываю его рукой и вежливо разговариваю, а малыш сидит на полу, глаза сверкают, как граненый хрусталь, это он заходится, хватает воздух, три-два, один — пуск! А-а-а!!!
— Минуточку. Или ты замолчишь…
— Ааааа!!!
Никогда ни Алена, ни Андрей маленькие себе такого не позволяли, но ведь у малыша энцефалопатия, мать его, как видно, роняла со стола, я ее предупреждала, и у него расшатаны нервы, как у истеричной бабы.
В трубке приветливый провинциальный голосок информирует меня о том, что мою мать Серафиму Георгиевну переводят из больницы в интернат для психохроников.
Все. Это все. Все, о чем я даже боялась думать, сбылось. Ведь знает завотделением, знает, что мне некуда брать мать и на что я живу.
— Простите, деточка, как вас звать?
— Никак. Ну, Валя.
— Валечка, девочка, а почему так? Что стряслось? Она плохо себя ведет? А где Деза Абрамовна?
— Деза Абрамовна в отпуску, а мы все с первого в отпуску… Начинается ремонт, всех больных кого куда, кого даже выписываем домой, если можно. Кого в интернат, одиночек или отказных. Кого в другую больницу. Но вашу… тетя она вам… или мама…
— , Не важно, тетя или мама, она живой человек…
— Вашу бабулю не примут.
— Почему, Валюша? Что такое? — А не будут держать.
— Можно, я заеду поговорю? А кто на месте? Малы-шик, погоди, не до тебя. (А он разбежался и ударил меня двумя кулаками по почкам.) Господи, за что? А, Валечка?
— В общем, вы решайте. Выписка в интернат уже готова. Вы не беспокойтесь, вам приезжать не надо, мы все оформим. Завтра ее увозят.
— Так… Тише, маленький (он вывернулся из моего кулака, которым я держала его за рубашонку). Почему такая спешка?
А сама лихорадочно соображаю, что делать. Значит, так, ее переводят, пенсию у нее отбирает государство. Интернатным не платят. Значит, мы сидим совершенно уже в калоше. Абсолютно. А ее пенсия как раз через два дня, я ее успею ли получить? Могут не дать. Ах ты горе какое! Живешь плохо, но как-то все уравновешивается до следующего удара, после которого может показаться, что предыдущая жизнь была тихой пристанью. Горе, горе. Они там умирают как мухи, в этих интернатах для психохроников.
— Какая спешка, никакой спешки, — неожиданно всплывает голос этой Вали, — вас же предупреждали загодя. Да вы не беспокойтесь!
— Никто, во-первых, не предупреждал. В какой интернат ее перевозят, это где?
— Не беспокойтесь. Это за городом. Да мы ее погрузим, ее там примут.
— Теперь за город ездить два часа в одну сторону, спасибо.
— Да нет, это дальше. Зачем вам ездить? — отвечает Валя. — Они там на всем готовом. Ну все, я вас предупредила. Да, еще нужна ваша подпись, ну это потом.
— Кака така подпись?
— Ну, что вы согласны.
— Я не согласна, чего выдумали!
— А вы берете ее домой?
— Никаких подписей, — говорю я взбешенно, — никаких подписей вы не получите. Новое дело!
И я бросаю трубку.
Как всегда, следует скандал с одеванием, малыш не хочет надевать валенки с галошами, не хочет прекрасную ушанку еще Андрюшину: хочет вязаную, легкую.
Но ведь холодно! Что ты со мной делаешь, ты желаешь мне сидеть у твоей койки смотреть, как ты болеешь опять? Я умоляю и т. д. Поехал все-таки в легкой шапке, но в валенках, хорошо, держи голову в холоде, ноги в тепле, народное правило. Ладно, до метро семь минут ходьбы быстрым темпом, в метро тепло, а там опять-таки три остановки. Денег на билеты ушла уйма, но дальше нас везут на машине, оказалось, зеленый продуваемый «газик». Спасибо и на том. Вместе с нами едет какая-то неизвестная дама в дубленке, рваной на спине по шву рукава, и самодельной шапке из лисьего хвоста.