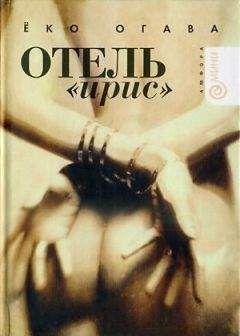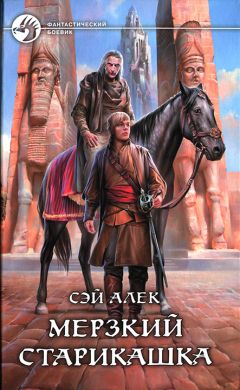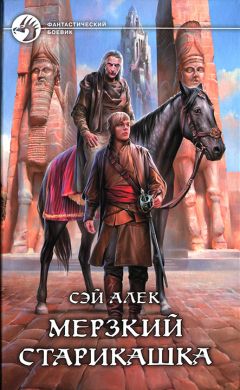Ни завтра, ни послезавтра меня не устраивали. Во что бы то ни стало я должна была прийти к цветочным часам сегодня. Мне хотелось закричать это, однако пришлось молча выслушивать слова матери.
– Давай-давай, поторапливайся, а когда закончишь накрывать в столовой, придешь помогать мне заправлять постели, хотя бы в одной комнате.
Как всегда, приказания матери нагоняли на меня хандру. Мне казалось, что меня избивают и унижают.
После завтрака я мыла посуду. Выбрасывала недоеденные ломтики ветчины, мыла испачканные йогуртом ложки и выливала остывший кофе.
Сейчас постояльцы опять начнут собираться в столовой. Первыми появились женщина с могучей грудью в бюстгальтере и шортах и юноша в солнечных очках. Я поспешно вымыла руки. Они заказали кофе-эспрессо и чай с лимоном. Когда я сказала, что есть только кофе-американо, женщина надула губы, а мужчина фыркнул. Я достала из холодильника лимон, который только что туда положила, и нарезала его ломтиками.
Потом они заныли: «У вас нет конфитюра из черники? Сыр слишком твердый, подогрейте еще раз тосты, а ножи слишком грязные…» И все это залпом, на едином дыхании.
Грязная посуда была горкой свалена в мойке. На чашке, из которой пила женщина, остались следы ее розовой помады. Сколько я ни терла чашку губкой – помада не отмывалась.
Выезжающие гости сгрудились в холле. Я слышала, как мать трижды меня позвала: «Мари, Мари, Мари!» Хотя было еще рано, но утренняя свежесть уже исчезла, и гости раздраженно звонили в колокольчик на стойке. Я швырнула испачканную помадой чашку в помойное ведро, и она раскололась со слабым звуком. Держу пари, наша уборщица наверняка выдумала себе болезнь. Она догадалась, что сегодня я буду ждать почтальона, и решила мне помешать. Возможно, она затаила на меня злобу за то, что я подняла перед матерью вопрос о шкатулке с бисером. Хотела ли она таким образом меня наказать? Или ей просто доставляло удовольствие делать все мне назло?
У меня не было способа отменить свидание. Дома у переводчика нет телефона. Любыми способами мне нужно успеть к двум часам. Я была готова сделать все, что только пожелает этот человек.
После того как поток постояльцев схлынул, я решила тайком от матери снова позвонить уборщице.
– Как ваш живот? – спросила я.
– Спасибо за беспокойство, – ответила она, как мне показалось, с уверенностью человека, успешно выигравшего сражение.
– Надеюсь, вы не пьете слишком много пива?
– А почему бы и нет? В такую жару это объяснимо.
– Мама недовольна.
– Она из тех людей, которые вечно всем недовольны.
– Зачем вам понадобилось притворяться больной?
– Притворяться больной? – Уборщица рассмеялась, словно сочла мои слова смешными. – Перестань говорить глупости! Зачем мне лгать, чтобы не пойти на работу? Я ведь этим зарабатываю себе на жизнь.
– Не делайте вид, что не понимаете.
Мать выключила пылесос, и внезапно стало тихо. Я приблизила трубку к губам и прикрыла ее ладонью:
– Я разгадала ваш замысел. Вы хотите таким способом задержать меня в отеле, чтобы я не могла пойти к зубному.
– Какие глупости ты говоришь. При чем тут я? Ты собиралась пойти к зубному, но не пошла, а меня это не касается. Дантист – это дантист. Просто дантист.
Я услышала в телефонной трубке звук размешиваемого льда: она что-то пила. Как всегда, уборщица была занята жадным поглощением пиши, причем даже не пыталась это скрывать.
– Почему ты решила, что я притворяюсь больной? У меня действительно болит живот. Причем настолько сильно, что я не могу убирать комнаты. И между прочим, твоя мама разрешила мне сегодня остаться дома.
Должно быть, уборщица говорила с набитым ртом, и мне иногда было трудно разобрать слова, которые она произносила, но я решила не обращать на это внимание и решительно сказала:
– Чтобы в половине второго вы появились в «Ирисе»!
– Извини, но это невозможно.
– Вы поняли? В половине второго! Не позднее!
– Отстань, пожалуйста!
– Если вы не придете, я все расскажу матери. Я вас уже один раз предупреждала! Вы потеряете деньги не только за этот пропущенный день, но и за всю оставшуюся жизнь.
Гудение пылесоса возобновилась. А на другом конце провода воцарилось молчание. Я боялась, что уборщица скажет, что если я хочу ее разоблачить, то на здоровье. А она тогда откроет тайну моих встреч с каким-то мужчиной. Надеюсь, она еще не знала, каким странным человеком считают в городе моего любовника.
«Все в порядке, все в порядке, – повторяла я про себя. – Поскольку все письма я сожгла, улик не осталось. А то, что сделала уборщица, является преступлением. Я знаю, где она хранит украденную шкатулку. А если заставить ее раздеться, то можно будет обнаружить еще и мою комбинацию».
Чтобы нанести решающий удар, я сказала в молчащую трубку:
– Надеюсь, вы понимаете, что вам грозит, если вы не придете через полчаса?
День выдался утомительный и заполненный работой. Я не успела даже пообедать. Мне нужно было вымести песок с ковров во всех комнатах, а мать только раздраженно кричала на меня. Не успевала я закончить уборку, как прибывали очередные постояльцы. Звонили разные люди: из страховой компании; из общества по предоставлению внаем декоративных растений; из туристических агентств; преподаватель из школы танцев; клиенты, отменяющие свои заказы; клиенты, бронирующие места; заблудившиеся постояльцы… Вдобавок еще постояльцы жаловались, что все туалеты на третьем этаже засорились и в отеле стоит ужасная вонь. Они требовали немедленно их прочистить, как будто это так просто сделать. Меня осаждали недовольные клиенты, которые не могли попасть к себе в номер. И при этом все выливали на меня накопившееся раздражение, словно это я была виновата и в том, что по номерам разливается дурной запах, и в том, что кто-то порезал о скалу ногу. Причиной засорения канализации оказались застрявшие в унитазе трусики женщины из 301-го номера. В этом номере жила супружеская пара, которая утром требовала кофе-эспрессо. Трусики были неприличной формы, совершенно в стиле этой женщины. Смытые грязной водой, они сбились в комок и застряли где-то в глубине унитаза.
Время приближалось к половине второго. Наверное, переводчик уже отплыл с острова? Наверное, он уже поднялся на катер? Небось, опять он в своей накрахмаленной рубашке, с туго затянутым галстуком, который он носит всегда, даже в такую страшную жару. Я не сводила глаз с часов. Извиняясь перед гостями, думала только о переводчике.
Уборщица так и не пришла. Каждый раз, слыша у служебного входа какой-то шум, я выглядывала во двор. Но это просто возились бездомные кошки.
– Ах! Как я проголодалась! Больше не могу! Приготовь нам что-нибудь, – сказала мать.
Я прошла во внутреннюю комнату и разогрела карри из банки. Но едва начала есть, стоя у входной двери, прибыли очередные клиенты. Пока я ходила к стойке регистрации, а потом поднималась показать комнаты, мой карри совершенно остыл.
Минутная стрелка часов перешла за половину второго. Уборщица так и не появилась. Может, она хочет за что-то проучить меня? Даже если бы я прямо сейчас побежала, то все равно к назначенному времени не успеть. Я с трудом запихивала в горло остатки остывшего карри.
– Ты разве не видишь, что скатерти на столах грязные? Если их прямо сейчас постирать и развесить, то к завтрашнему утру они высохнут.
Набив живот, мама не успокоилась. Она хлопнула дверью и поднялась на третий этаж посмотреть, что там происходит.
Я взялась за скатерти. Погрузила их в отбеливатель, чтобы отошли пятна от масла, конфитюра и апельсинового сока. Потом накрахмалила и отжала скатерти в стиральной машине. Когда я развешивала их в узком дворе, там кишмя кишели комары. Три скатерти я повесила на верхнюю перекладину и четыре на нижнюю, следя за тем, чтобы они не перекосились, а потом, с промежутками в двадцать сантиметров, закрепила их прищепками. Тридцать или десять сантиметров не годятся.
Я и сама не понимала, почему не бросила эти скатерти и не полетела на встречу с переводчиком, почему я должна так дрожать перед матерью? Мне была невыносима сама мысль о том, что мы с ним не встретимся или что мать все узнает. Воздух вокруг меня становился все более разреженным, и я почувствовала, что уже не могу дышать. Но вот если бы уборщица сейчас пришла, этого было бы вполне достаточно для того, чтобы я почувствовала себя хорошо.
Мне было больно смотреть на часы. Стрелки безжалостно показали сначала два, а потом три часа. Моя ненависть к уборщице все возрастала.
На самой чистой скатерти вырисовался силуэт переводчика. Он стоял на площади перед юношей, играющим на аккордеоне под лучами палящего солнца. Монетки блестели в футляре аккордеона. Отдыхающие не обращали никакого внимания на грустную мелодию. Переводчик был единственным, кого захватывала эта музыка.