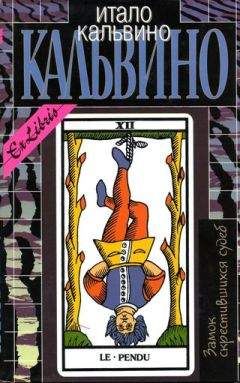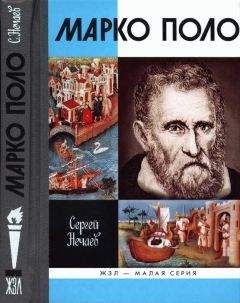— По-моему, ты лучше узнаёшь города в атласе, чем когда в них попадаешь,— заметил император, захлопывая том.
На это Поло:
— Когда путешествуешь, различия стираются, и каждый город представляется похожим на все прочие, путаются формы, расстояния, планировка, словно континенты засыпает бесформенная пыль. А твой атлас сохраняет различия — набор определенных черт, которые подобны составляющим имя буквам.
Есть у Великого Хана атлас с картами всех городов: и тех, которые стоят незыблемо, и тех, развалины которых занесли уже пески, и будущих, которые возникнут там, где ныне только заячьи норы.
Перелистывая карты, Марко Поло узнает Иерихон, Ур, Карфаген, указывает пристани в устье Скамандра, где десять лет стояли корабли ахейцев, ожидая, когда на них взойдут державшие осаду, пока придуманный Улиссом конь не был протянут с помощью лебедок через Скейские ворота. Но, говоря о Трое, Марко приписал ей форму Константинополя, который спустя века также продержит много месяцев в осаде Магомет, не уступавший в хитрости Улиссу и отбуксировавший ночью корабли против течения от Босфора к Золотому Рогу мимо Перы и Галаты. Смешение двух этих городов давало третий, который мог бы называться Сан-Франциско, простирать свои длиннейшие изящные мосты через залив и через Золотые Ворота, с помощью зубчатых передач тащить трамваи вверх по улицам, идущим в гору, и стать спустя тысячелетие тихоокеанскою столицей после трех веков осады, в результате коей желтая, черная и красная расы сплавятся с живучим белым племенем в империю, обширностью превосходящую владения Кублая.
Атлас обладает свойством выявления формы городов, не имевших еще не имени, ни формы. Есть город в форме Амстердама — полукружье, обращенное к северу, с концентрическими каналами, наименованными в честь Принцев, Кесаря, Правителей; есть средь высоких вересковых зарослей город в форме Йорка, обнесенный стенами и ощетинившийся башнями; есть город в форме Нового Амстердама, именуемый Нью-Йорком, полный башен из стекла и стали, он высится на продолговатом острове между двух рек, и улицы его, похожие на глубокие каналы, прямы, за исключением Бродвея.
Каталог форм бесконечен, и пока для каждой не найдется город, будут появляться новые города. Там, где формы исчерпывают свои возможные вариации и распадаются, города перестают быть городами. По заключительным страницам атласа растекались сетки без начала и конца, города в форме Лос-Анджелеса, Осаки-Киото, то есть не имеющие формы.
Рядом с Лаудомией, как и с каждым городом, имеется еще один, у обитателей которого такие же фамилии,— это Лаудомия усопших, кладбище. Но в отличие от прочих городов, двойных, Лаудомия — тройная, так как заключает в себе третий город — Лаудомию еще не появившихся на свет.
Как устроены двойные города, известно. Чем многолюдней и обширней Лаудомия живых, тем больше места занимают за ее пределами могилы. В Лаудомии умерших ширина аллей только-только позволяет развернуться дрогам, все сооружения без окон, но схема улиц и расположение жилищ такие же, как в Лаудомии живых, и так же родичам приходится все больше уплотняться, размещаясь друг над другом в погребальных нишах. В погожие дни живые навещают мертвых и разбирают на надгробных плитах собственные фамилии; подобно городу живых, эта Лаудомия рассказывает о трудах и злости, об иллюзиях и чувствах, только тут все это представляется неизбежным, неслучайным, все разложено по полочкам, все упорядочено. И чтоб чувствовать себя уверенно, живая Лаудомия здесь, в Лаудомии мертвых, ищет объяснение самой себе, рискуя найти больше или меньше: объяснения не только Лаудомии, а и разных городов, которые могли быть, но их не было, или же неполные, противоречивые, обманчивые доводы.
Лаудомия справедливо отводит столь обширное местожительство тем, кому лишь предстоит родиться; разумеется, оно не соразмерно их числу — которое предполагается бесконечным,— но поскольку эта пустота окружена сооружениями сплошь из углублений, ниш и каннелюр, а нерожденных можно представлять себе любых размеров — с мышку, с шелкопряда, с муравья и даже с муравьиное яйцо,— то ничто нам не мешает их воображать стоящими или сидящими на корточках на каждом выступе, консоли, плинтусе и капители, в ряд или порознь, поглощенными делами будущих времен, и видеть на крупинке мрамора всю Лаудомию сотню или тысячу лет спустя, толпы людей в диковинных одеждах — скажем, в баклажанного цвета грубошерстных балахонах или с перьями цесарки на тюрбанах,— узнавая в них своих потомков и отпрысков своих друзей недругов, должников и кредиторов, продолжающих вести торговые операции, мстить обидчикам и заключать помолвки по любви и по расчету.
Те, кто обитает в Лаудомии ныне, приходят в гости к неродившимся и спрашивают их о чем хотят; шаги их отдаются эхом под пустыми сводами, вопросы звучат в тишине, а спрашивают живущие неизменно о самих себе, а не о тех, кто будет после: кто-то озабочен тем, чтобы войти в историю, а кто-то — тем, чтобы забыли про его позор, и всем охота проследить последствия своих поступков, но чем сильней они присматриваются, тем прерывистее видится им уходящий в будущее след, и отдаленные потомки кажутся пылинками без «прежде» и «потом».
Лаудомия ненародившихся, в отличие от Лаудомии усопших, не внушает живущим ныне никакой уверенности — лишь растерянность. Для гостей ее, в конечном счете, остается два возможных хода мыслей, и какой тревожней — неизвестно: либо думать, что количество людей, которые когда-нибудь появятся на свет, намного больше совокупного числа живущих ныне и уже умерших, и в мельчайших порах камня скучились невидимые толпы, заполняющие склоны этих крошечных воронок, как болельщики — трибуны стадиона, а поскольку с каждым поколением население Лаудомии растет, в любой воронке возникают еще сотни крошечных воронок, и в каждой миллионы жителей, которым предстоит родиться, вытягивая шеи, ловят воздух ртом, либо думать, что настанет день, когда и Лаудомия исчезнет вместе с горожанами, что новые поколения будут приходить на смену прежним лишь до достижения определенной численности населения, и тогда две Лаудомии — умерших и еще не народившихся — подобны сосудам непереворачиваемой клепсидры, а переходы от рождения к смерти — переходу песчинок через ее горловину, и когда-нибудь появится на свет последний житель Лаудомии, и просочится вниз последняя песчинка, находящаяся ныне на верху горы песка.
Астрономы, призванные дать рекомендации для основания Перинции, по положению звезд определили оптимальные место и день закладки города, обозначили направленность пересекающихся демаркационных линий — декумана и карда,— ориентированных на движение солнца и на ось вращения небес, поделили карту сообразно знакам зодиака — так, чтоб каждый храм и каждый городской квартал испытывал благоприятное воздействие созвездий, установили, в каких местах пробить ворота в городской стене, чтоб сквозь них можно было наблюдать все лунные затмения ближайшего тысячелетия. В Перинции — заверили они — получит отражение гармония небесных сфер, а судьбы ее жителей определяться будут мудростью природы и благоволением богов.
Перинция была возведена в полнейшем соответствии с расчетами, и город заселили разные народы; появилось поколение первых уроженцев города, за тем пришла пора и им жениться, заводить детей.
На улицах и площадях Перинции сегодня множество уродов, карликов, горбунов, неимоверных толстяков и бородатых женщин. Впрочем, худшего не видно, лишь доносятся гортанные вопли из подвалов и амбаров, где родители скрывают трехголовых и шестиногих чад.
Астрономы города Перинция встали перед трудным выбором: допустить, что их расчеты неверны и числами небес не описать, или объявить, что в городе чудовищ отражается божественный порядок.
Ежегодно по дороге заезжаю я в Прокопию и останавливаюсь в хорошо знакомой мне гостинице, в одном и том же номере. Впервые оказавшись там, я задержался у окна, чтоб рассмотреть пейзаж, который открывается за занавеской: ров, мостик, невысокую каменную ограду, дерево рябины, кукурузное поле, ежевичные кусты, курятник, желтоватый холм, облако и четырехугольник голубого неба. В первый раз я совершенно точно не видал там ни одной живой души и только через год, заметив шевеление листвы, смог различить приплюснутое круглое лицо, глодавшее початок кукурузы. Еще год спустя на каменной ограде их наблюдалось уже трое, в следующий раз — шестеро: усевшись в ряд, они держали руки на коленях, на тарелке перед ними были ягоды рябины. С каждым годом, заходя в тот номер и отодвигая занавеску, я насчитывал на несколько физиономий больше: восемнадцать вместе с теми, что внизу, в канаве; двадцать девять, из которых восемь на ветвях рябины; сорок семь без тех, которые в курятнике. Похожи друг на друга, с виду славные — веснушки на щеках, улыбки, у некоторых губы в ежевике. Вскоре уже весь мост был занят круглолицыми субъектами, сидевшими на корточках,— поскольку двигаться им стало некуда,— занимаясь объеданием кукурузных зерен, а потом глоданием початков.