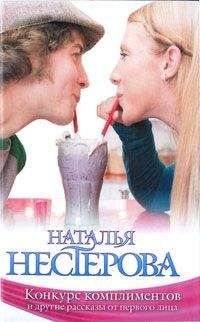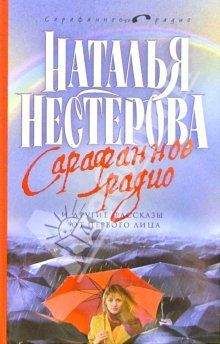– Я безумно люблю своего сына! – патетически, обращаясь к люстре, изрекла Алиса. – Вам не понять, низкие существа! И при чем здесь кошки? Абсурд!
Пусть мы – самодеятельный театр, но дурачимся от души и не скрываем, что дурачимся. Алиска же – дурной, насквозь фальшивый театр. Лицедейка!
– Забираю Вадика? – повторила я вопрос, вдруг почувствовав навалившуюся усталость.
Тяжело и утомительно, оказывается, тратить душевную энергию на черствых эгоистов.
– Вон! Прочь из моего дома! – Алиса картинно показала на дверь.
– Первый достойный поступок в твоей жизни, – сказала я и вышла из квартиры.
Вернувшись из свадебного путешествия, Вера оказалась меж двух огней. Какие ей сестричка истерики закатывала, можно было только догадываться. Но и Юра был не промах. С помощью секретного оружия или здравой логики – вышла замуж, так живи с мужем, свивай гнездо – он Веру привязал. Племянника они к себе забрали. Вера часто к Алисе наведывалась – убрать в доме, еды приготовить. Сама беременная, зеленая, а на другой конец города тащится Алисе белье стирать. У нас просто руки опускались от такой идиотской самоотверженности. И ругать Веру было нельзя. Вы ругали когда-нибудь добрую нежную кошку? Бесполезно, и стыдно за себя становится.
Мы с мамой сдались. Наступили себе на горло. Ездили к Алиске порядок наводить, стирать, гладить – обслуживать драную поэтессу. Только бы Вере передышку дать. Будущее представлялось нам кошмарным. До старости за Алисой грязь подтирать?
Провидение над нами смилостивилось. Алиса квартиру продала, подалась в столицу и сгинула. За три года – ни письма, ни звонка, ни подарка ребенку. И славно! Так бы и дальше не слышать о булыжнике, покрытом шоколадом.
Вера девочку родила, племянника воспитывает. Славный мальчик, не в мать пошел, в тетю.
Долгое время я была убеждена, что есть опыт, которым не нужно делиться. Вернее, панически не хотела, например, знать, что переживает мать, потерявшая ребенка, или человек, приговоренный к смерти. Следует только молиться, чтобы подобного с тобой и близкими не случилось. Да и слов, я думала, чтобы описать подобный опыт, не существует. Теперь нашлись. Доченька моя, храни ее Господь, жива и здорова. К смерти готовилась я сама.
Мне было тридцать два года. Прекрасная семья, интересная работа, шестилетняя дочурка. И чувствовала я себя нормально, ничего не болело и не беспокоило. В том числе и твердые шарики в груди, которые я случайно обнаружила, стоя под душем. И вот я сижу перед врачом после анализов и обследований, и он говорит, что нужно срочно делать операцию. Удалить грудь, матку и придатки. Я молода, и рак развивается стремительно, у пожилых женщин злокачественные опухоли растут медленнее, а у меня предпоследняя стадия.
Это раньше от пациентов скрывали страшный диагноз, сейчас говорят прямо. Но подбадривают: есть надежда. То есть мне оставили маленькую надежду на то, что, превратившись в уродливое бесполое существо, я проживу долго и счастливо.
Мои чувства после разговора с врачом – как раз то, чего я не пожелаю заклятому врагу, что боятся испытать нормальные люди. И через шок, агрессию отрицания, отчаяние, депрессию возвыситься до принятия своей судьбы, до удивительного духовного просветления, до религиозной благости и всепрощения дано не каждому. Я видела таких людей, одной ногой стоящих в могиле и в то же время несущих свет жизнелюбия. Но сама к ним не принадлежу. Сознание бренности существования не учит меня ценить мгновения жизни. Не могу быть счастливой, когда голова лежит на плахе. К сожалению, очень большому сожалению! Я из тех, кому в последнюю минуту – или в омут головой, или в проклятия Создателю.
Мужу про свои анализы и обследования я ничего не рассказывала. Не хотелось вызвать у Игоря естественное отвращение к моему телу, в женских органах которого завелись мерзкие бяки.
С Игорем мы учились на одном факультете Московского энергетического института. Наши любовные отношения были похожи на сотни и тысячи подобных студенческих. Хотя началось все «романтично» – мы сшиблись лбами. Буквально и больно, в дверях аудитории: он удирал с лекции, а я на нее спешила. Я обозвала его дебилом, он меня – идиоткой. Через несколько дней на дискотеке в общежитии пригласил меня на медленный танец:
– Не откажете умственно отсталому дебилу?
– Только слюни не пускать и на ноги не наступать! – рассмеялась я.
Неделю мы с ним подшучивали друг над другом, а на вторую уже страстно целовались. Познакомились на втором курсе, на третьем – расписались. Деваться нам было решительно некуда: я жила в общежитии, у Игоря в маленькой двухкомнатной ютились родители, младшая сестра и старенькая бабушка. Ни моя мама, скромная учительница в городе Льгове Курской области, ни родители Игоря не могли нам сделать подарка, вроде ежемесячного взноса за снимаемую комнату. Они – прекрасные люди и потому, наверное, не богаты и не чванливы.
Игорь устроился дворником – за комнату в полуподвале и зарплату размером в две стипендии. По утрам или поздно ночью мы мели с ним двор, сгребали снег, кололи лед. Часто нам помогали друзья – быстрее закончим и загудим в дворницкой. Это было чудесное время, как припев в хорошей песне, – долгий веселый припев без нудных куплетов. В полуподвале, кроме нас с Игорем, жили еще два дворника, оба – алкоголики: тетя Ира и дядя Юра. Пили они тихо и постоянно, к нашим буйным компаниям относились благосклонно. Тетя Ира пекла на всех пироги с капустой, а дядя Петя, сидя в углу, слушая наши споры о литературе, искусстве, политике, о будущем энергетики, бормотал: «Слова русские, а ни бельмеса не понимаю».
После института мы уехали в далекий сибирский город, где построили и запускали теплоэлектростанцию. Производственных проблем было столько, что, казалось, немыслимо их разрешить, и «Луша» никогда не выдавит из себя ни киловатта электроэнергии. «Лушей» мы звали станцию. В честь жены директора, отличного дядьки, который одинаково проникновенно говорил: «Моя супруга Луша…» и «Наша вверенная в руководство станция…». Когда «Луша»-станция все-таки вышла на проектное напряжение, мы испытывали такое ликование, словно не электричество бежало по проводам, а наша собственная кровь.
В Сибири мы проработали пять лет и заработали на комнату в московской коммуналке. Но комната оказалась перспективной – через некоторое время большую квартиру расселили, и мы получили крохотную двухкомнатную. Родилась долгожданная дочка. Игорь настоял, чтобы назвать ее Татьянкой, как и меня. Я сопротивлялась: зачем всех под одну гребенку? Но Игорь говорил, что краше этого имени быть не может.
В общем-то, мы были простой средней семьей. Так и сказал небрежно наш приятель, выбившийся в бизнесмены:
– Гляжу на вас, как вы тихо топаете к нищей государственной пенсии, – шаг вперед, два шага назад. Средний класс средних обывателей.
Игорь в ответ развел руками, показал на нашу немудреную обстановку:
– Все, на что ты глядишь, от кирпича в стене и до последней нитки в подштанниках, заработано своим горбом, потом и кровью. Не украдено, не наварено в махинациях, а заработано! И мы с Танькой – класс, может быть, и средний, да совести и порядочности высокой!
Звучало пафосно и эмоционально, но, по сути, совершенно верно. Мы с Игорем были кузнецами своего маленького и, как тогда казалось, надежного счастья. Мы вовсе не чурались карьеры, не топтались на месте, особенно Игорь. Его взяли в одну из контор РАО ЕЭС, и он отлично там себя зарекомендовал. Я много внимания уделяла дочери, поэтому устроилась на скромную должность в теплоэнергонадзор. Из нашего дома постепенно уходила нужда. Мы уже не бегали осенью, зимой и весной в куцых куртенках, купили видеомагнитофон и прочие предметы роскоши. Словом, все у нас было хорошо. До того дня, когда мне вынесли диагноз-приговор. Будто мы ехали-ехали в веселом поезде и прибыли на станцию, а там – холодная лунная пустыня и мрак.
Я уложила Татьянку спать, сидела на кухне, ждала мужа. Он теперь часто задерживался – работы невпроворот. Я ждала его, готовилась сообщить страшную новость, как ждет человек, на которого свалился непосильный груз, и держит он его на последнем напряжении. Но придет родной и любимый и возьмет на себя часть тяжести.
Игорь пришел, не снимая пальто, заглянул на кухню, увидел мое лицо и заговорил первым:
– Ты уже все знаешь? Вижу – знаешь. Да, я полюбил другую женщину. Наверное, за это нельзя простить. Но я все-таки прошу не держать на меня зла. Молчишь? Ну и правильно. Какие тут могут быть слова.
Он ушел собирать вещи. Я не плакала. Плачут, когда больно. А мертвые не плачут, им не больно. У меня в голове крутилась фраза: жизнь после смерти, жизнь после смерти. Я стояла на краю пропасти, думала – он протянет мне руку, а он подошел и толкнул меня вниз, в жизнь после смерти. Я умерла. Я была живым трупом, с телом, которое поедали злокачественные опухоли, и с сознанием, растоптанным, точно грецкий орех, под сапогом.