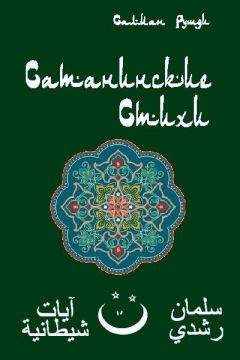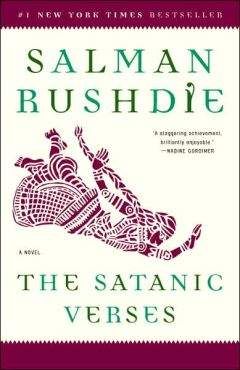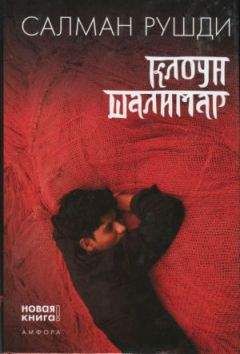— Как про того индейца,[323] — объяснила она Чамче, вручая ему копию. — Что хорошего, правильного в том, чтобы быть хводжем? Это индуистский фундаментализм. В общем-то, все мы — плохие индийцы. А некоторые хуже, чем прочие.
Ее красота обрела полноту, длинные волосы были распущены, и фигура ее сегодня вовсе не напоминала стиральную доску. Через пять часов после того, как она вступила в его раздевалку, они были в постели, и он лишился сознания. Когда он пришел в себя, она призналась: «Я подмешала тебе микки-финна[324]». Он никогда не допытывался, сказала ли она ему правду.
Зинат Вакиль сделала Саладина своим проектом.
— Восстановление, — объяснила она. — Мистер, мы собираемся вернуть Вас.
Временами ему казалось, что она хочет добиться этого, сожрав его заживо. Она занималась любовью подобно каннибалу, и он был ее двуногой свининой.[325]
— Знаешь ли ты, — спросил он ее, — об известной связи между вегетарианством и людоедскими импульсами? — Зини, завтракающая на его обнаженном бедре, покачала головой. — В некоторых экстремальных случаях, — продолжал он, — слишком много растительной пищи может выпустить в систему биохимикалии, стимулирующие каннибальские фантазии.
Она посмотрела на него и улыбнулась своей кривой улыбкой. Зини, прекрасный вампир.
— Да брось ты, — махнула она рукой. — Мы — нация вегетарианцев, и у нас миролюбивая, мистичная культура, это известно каждому.
Ему, в свою очередь, приходилось обращаться с нею крайне осторожно. Когда он впервые коснулся ее грудей, она исторгла поразительно горячие слезы цвета и вида молока буйволицы. Она видела, как умирала ее мать, которая, как птица, разрезаемая на обед, лишилась сначала левой груди, потом правой, но это не смогло остановить рака. Ее страх повторить судьбу матери наложил на ее грудь запрет. Тайный ужас Бесстрашной Зини. У нее никогда не было детей, но ее глаза сочились молоком.
После их первого секса она накинулась на него, забыв про слезы.
— Знаешь, кто ты, скажу я тебе. Дезертир, более английский, чем твой ангризский[326] акцент, обвившийся вокруг тебя подобно флагу, и не думай, что это так уж совершенно, это скользко, любезный, как накладные усы.
«Что-то странное происходит с моим голосом», — хотелось сказать ему, но он не знал, как объяснить это, и держал язык за зубами.
— Люди вроде тебя, — фыркнула она, целуя его плечо. — Вы возвращаетесь после столь долгого отсутствия и думаете о себе богзнаетчто. Хорошо, детка, наше мнение о тебе стало пониже.
Ее улыбка была ярче, чем у Памелы.
— Я вижу, Зини, — ответил он, — ты не утратила свою улыбку от Binaca.[327]
Binaca. Кто заставил его вспомнить давно забытую рекламу зубной пасты? И прозвучали гласные, отчетливо ненадежные. Осторожно, Чамча, следи за своей тенью. За своим черным товарищем, крадущимся позади.
На вторую ночь она пришла в театр с двумя приятелями на хвосте — молодым кинопродюсером-марксистом Джорджем Мирандой,[328] неуклюжим китом в человеческом теле, в развевающемся на ветру жилете с грязными пятнами, курта[329] с закатанными рукавами и занятными военными усами с вощеными мысками; и Бхупеном Ганди,[330] поэтом и журналистом, преждевременно поседевшим, но сохранявшим лицо невинного младенца до тех пор, пока не спускал с привязи свой хитрый, хихикающий смех.
— Собирайся, Салат-баба, — объявила Зини. — Мы собираемся показать тебе город. — Она обратилась к своим компаньонам: — У этих иностранных азиатов совершенно нет стыда, — сообщила она. — Разве Саладин похож на чертов латук,[331] я вас спрашиваю?
— Несколько дней назад здесь была репортерша с ТВ, — сказал Джордж Миранда. — Розовые волосы. Она сказала, что ее зовут Корлида. Ни в жизнь не догадался бы.
— Послушай, Джордж слишком не от мира сего, — прервала его Зини. — Он не знает, в каких уродов превращаются парни вроде тебя. Эта мисс Сингх,[332] возмутительно! Я сообщила ей: имя Халида,[333] милочка, рифмуется с Далда,[334] прекрасный посредник на кухне. Но она не могла выговорить это. Свое собственное имя. Оставьте ваших кор оля и лид ера.[335] У вас нет никакой культуры. Всего лишь хводж. Неправда ли? — добавила она, внезапно повеселевшая и широко раскрывшая глаза, боясь, что зашла слишком далеко.[336]
— Прекрати измываться над ним, Зинат, — тихо молвил Бхупен Ганди.
А Джордж неловко пробормотал:
— Не обижайся, мужик. Шутки-жутки.[337]
Чамча решил ухмыльнуться и дать отпор.
— Зини, — сказал он, — земля полна индийцами, знаешь, мы сейчас везде, мы становились горшечниками в Австралии, и наши головы находили свое пристанище в холодильниках Иди Амина.[338] Наверное, Колумб был прав: весь мир состоит из Индий — Ост-Индия, Вест-Индия, Норд-Индия[339] … Черт возьми, вы должны гордиться нами, нашим предприятием, тем способом, которым мы продвигаемся через все границы. Все дело в том, что мы не настолько индийские, как вы. Будет лучше, если вы привыкнете к нам. Как называлась та книга, которую ты написала?
— Послушайте, — Зини положила руку ему на плечо. — Послушайте моего Салатика. Он вдруг захотел быть индийцем после того, как истратил всю жизнь, стараясь стать белым. Видите, еще не все потеряно. Здесь еще осталось кое-что живое.
И Чамча чувствовал себя умытым, чувствовал, как растет его замешательство. Индия; дело тонкое.[340]
— Святой Петр! — воскликнула она, пронзая его поцелуем. — Чамча. Значит так, еб твою мать. Ты называешь себя Мистером Лизоблюдом и ждешь, что мы не будут смеяться.
Из довольно потрепанного хиндустана[341] Зини, созданного для слуг культуры автомобиля, задние сиденья которого были обиты материей лучше, чем передние, Саладин ощутил надвигающуюся на него ночь, растворяясь в ней как в толпе. Индия противопоставила его забытой необъятности своего очевидного присутствия, старого презренного беспорядка. Амазонская хиджра[342] с серебряным трезубцем, возвышающаяся подобно индийской Чудо-Женщине,[343] остановила движение жестом властной руки, медленно ступая пред ними. Чамча таращился в егоее[344] ясные глаза. Джибрил Фаришта, кинозвезда, необъяснимо исчезнувшая из виду, гнил на рекламных щитах. Щебень, мусор, шум. Мимо проносилась реклама сигарет: scissors — для порядочных, самодостаточных.[345] И, более неправдоподобное: panama[346] — часть ВЕЛИКОЙ ИНДИЙСКОЙ СЦЕНЫ.
— Куда мы направляемся?
Ночь стала зеленой от неоновых огней. Зини припарковала автомобиль.
— Ты заблудился, — обвиняла она Чамчу. — Что ты знаешь о Бомбее? Твой родной город, которого никогда не было. Для тебя это детский сон. Расти на Скандальном мысе — то же самое, что жить на луне. Никаких тебе бастис,[347] никаких вилл для белых сэров, только кварталы служащих. Появлялись ли здесь элементы Шив Сены[348] со своими коммуналистическими[349] заварушками? Голодали ли ваши соседи на текстильных забастовках? Организовывал ли Датта Самант[350] съезды перед вашими бунгало?[351] Сколько лет тебе было, когда ты встретил профсоюзного работника? Сколько тебе было лет, когда ты зашел в электричку вместо машины с шофером? Это был не Бомбей, дорогой, прости меня. Это была Страна Чудес, Перистан, Нетландия, Изумрудный Город.[352]
— А ты? — напомнил ей Саладин. — Где была ты в это время?
— В том же самом месте, — молвила она с отчаяньем. — Со всеми прочими чертовыми дармоедами.
Глухие улицы. Джайнский[353] храм перекрашивался, и все святые[354] были в полиэтиленовых пакетах, чтобы защититься от капель. Тротуарный торговец журналами показывал газеты, наполненные ужасом: железнодорожная катастрофа. Бхупен Ганди заговорил своим мягким шепотом:
— После несчастного случая, — сказал он, — выжившие пассажиры плыли к берегу (поезд свалился с моста) и были встречены местными крестьянами, которые сталкивали их обратно в воду до тех пор, пока они не тонули, а затем грабили их тела.
— Закрой рот, — прикрикнула на него Зини, — зачем ты сообщаешь ему такие вещи?! Он уже думает, что мы — дикари, низшая форма жизни.
В магазинчике продавался сандал[355] для воскурения в близлежащем кришнаитском храме и наборы эмалированных розово-белых Всевидящих Очей Кришны.
— Слишком много, черт возьми, чтобы видеть, — заметил Бхупен. — Это материальный факт.