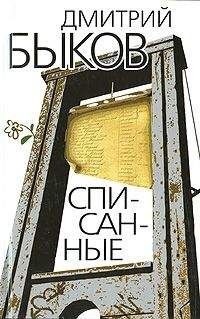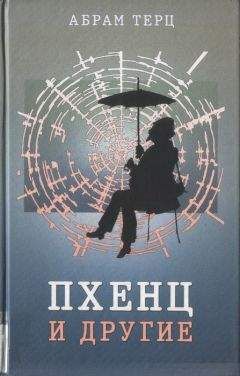Подтверждалось свиридовское подозрение: теперь, после попадания в список, любая житейская дрязга будет протекать тяжелей и заживать дольше, как царапина при диабете.
— А кто довел-то? — спросил Свиридов и тут же пожалел об этом. Список довела инстанция, о которой не полагалось спрашивать и не принято было отвечать.
— Кто надо, — сказал Горбунов. — А то сами не знаете, кто у нас доводит.
Неясно было, гордится он тем, что у нас все так обстоит, или стыдится, подобная смесь стыда и гордости с неявным превалированием последней была в основе новой идентичности; какой-то Задорнов.
— Догадываюсь, — стараясь вернуть его к союзническому, заговорщическому тону, ответил Свиридов. — Но это же может быть список на награждение, так? На что-нибудь хорошее, нет?
Горбунов усмехнулся.
— На хорошее они списков не дают, — сказал он. — Не та контора. Это вы даже оставьте, как говорится, надежду.
— Ну а что тогда? Если брать, то берите, только не мурыжьте попусту. Вы ждете, что я вам все скажу, а я сам не знаю.
— Да это-то понятно, — протянул Горбунов. Он явно искал, к чему прикопаться, и не находил. Свиридов был чист. Он даже нигде, кроме военкомата, не состоял на учете. Его не задерживали в нетрезвом состоянии, не доставляли приводом, не привлекали в качестве понятого. — Просто сами видите — теперь если сигнал, то повышенное внимание.
— Но я же не сделал ничего! Это он сделал, он обещал застрелить меня и мою собаку!
— Да по собаке вопросов нет, — отмахнулся Горбунов. — По старику нет, по собаке нет… Я маму вашу знаю, — сказал он внезапно, — хорошая мама.
По контексту следовало ожидать, что он добавит: «И вон что выросло», — но он молчал, томился, вытирал пот, и так же томился Свиридов. Майор, кажется, в самом деле еще не знал, как к нему относиться. Никаких человеческих чувств к Свиридову он, конечно, не испытывал, но испытывал, так сказать, имущественные. Перед ним сидел человек из списка, особый, обративший на себя внимание самой высокой здешней инстанции, он сидел у него в отделении и жил у него на участке, и непонятно было, как им распорядиться. Из этого могло получиться повышение по службе, а мог большой геморрой; его можно было взять сразу, а можно понаблюдать, вытащить сообщников, накопать целый заговор. Он надеялся, что Свиридов ему что-нибудь подскажет, но он то ли не знал, то ли хитрил. Приходилось решать самому, и надежней всего было тянуть время — вдруг сорвется и проговорится.
— Мне на работу надо.
— Нет, на работу вы погодите, — сказал Горбунов, и Свиридов понял, что на совещание по «Родненьким» опоздает безнадежно. — Вы посидите, подумайте — может быть, что-нибудь… Это нельзя вот так сразу. Если б он не просигналил, я все равно обязан. По месту прописки. Вы тут не проживаете, нет?
— Я у деда на квартире живу, — сказал Свиридов. — А что?
— Да вот видите, прописаны тут, живете там. Уже нехорошо. Путаницу создает, и, может быть, кто-то недоволен. Может, вас надо вызвать срочно, а вас нет. И тогда это, допустим, список людей, которые живут там, а прописаны тут. Я же не знаю, меня не вводят. У меня на все отделение вы один по списку, и я про других не знаю.
— Слушайте, — не выдержал Свиридов. — А показать мне этот список вы можете?
— Нет, как же? — развел руками майор Горбунов. — Если бы вам надо было, так вам бы довели. Я вообще не имею права вам сообщать, это я по дружбе.
— А о чем бы вы меня тогда спрашивали, если бы не сообщили? — не понял Свиридов. — Что, мы так друг на друга бы и смотрели?
— Не знаю, — вздохнул майор. — Нам не доведено, какие мероприятия. Нам только список.
Свиридов отчетливо понимал, что сейчас решается если не сама его участь, то общий ее вектор: в воздухе сгущались и плавали трудноопределимые сущности, и надо было что-то изменить сейчас, пока они не отвердели. То есть конец был один, раз уж он попал на карандаш, но еще можно было выговорить послабление, расчистить люфт. Так в основу приговора чаще всего ложатся первые показания, когда жертва еще не знает, как себя вести. Надо было сказать что-то правильное, свойское, но Свиридов, даром что сценарист, никак не мог придумать такой пароль. Он чувствовал себя как в регулярно повторяющемся сне: он сидит зимой, ночью, во дворе своего дома, и знает, что для облегчения участи — прижизненной или посмертной, во сне не уточняется, — ему надо куда-то пойти и что-то сделать, может быть, просто повидаться. Он идет к себе домой, там все в сборе, собираются пить чай, очень удивляются его возвращению: «Ты же уехал!» — «А куда я уехал?» — «Ты что, не помнишь?!» И от страха снова услышать материнское — ты всегда все забываешь, в прошлом году забыл зонт, всегда забывал в школе сменку, не помнишь, куда идешь, за что мне все это! — он кивает: а, да-да, конечно, ну, я пошел. Значит, не домой. Тогда к Володьке? Но Володьки нет дома, ему так и говорят, и почему-то со страшным раздражением. Ладно, тогда, наверное, на Киевский вокзал. Я должен куда-то уехать. Но на Киевском вокзале закрыты все кассы, и метель заметает пути. То есть совсем, совсем мимо. И тогда он возвращается в сквер и понимает, что ничего в своей участи изменить не может — участь на то и участь, чтобы ее нельзя было изменить. Значит, надо просто сидеть там и ждать. И как только он это понимает — сквер чудесно преображается, принимается падать легкий танцующий снег, даже что-то вроде «Вальса цветов» звучит из окон. Чтобы изменить участь, оказалось достаточно с ней примириться. Это был правильный сон — о том, что не надо дергаться. Он и теперь перестал подыскивать пароль и задал вопрос, который его интересовал.
— А сколько нас в списке? — спросил он.
Это и было парольное слово. Достаточно было сказать о людях из списка «мы» — и тем окончательно отделить себя от нормальных, никуда не попавших.
— Сто восемьдесят, — со вздохом сказал Горбунов. — Ну идите, работайте.
— А вы не можете сделать так, чтобы старик не орал? — осмелел Свиридов. Прокаженному можно.
— Я ему скажу, — пообещал майор.
6
Свиридов успел на совещание по «Родненьким», где ничего не знали о его увольнении из «Экстры» и спокойно отдали в разработку две новых темы — инцест и похищение. Но история с Синюхиным получила неожиданное продолжение, которое и сделало Свиридова героем среди списочных или списанных, как сами они называли себя впоследствии. В понедельник «Наш день» напечатал сенсационный репортаж о том, что один из создателей культового телешоу собаками травил одинокого старика — из числа тех, для кого это шоу делается.
Воскресенье Свиридов провел с Алей, они с утра завалились в Парк культуры, потратили кучу денег, перекатались на всех горках и качелях Луна-парка, и сиюминутный радостный страх рухнуть с огромной лодки, летавшей над Москва-рекой, вытеснил все остальные. Стреляли в тире, Свиридов близоруко мазал, Аля выиграла зеленого слона. Ели шашлык — как всегда, сырой и напоминавший о детстве, об эстраде зеленого театра, на которой читал еще не сваливший Молоток, герой только народившегося слэма; странно, что они с Алей оба бегали сюда и друг друга не знали. Вот уже вторую неделю подряд во второй половине дня проливался стремительный теплый дождь, над красными песчаными дорожками поднялся пар, малышня радостно визжала в детских вагончиках, и Свиридов впервые за неделю поймал себя на том, что не чувствует вражды к обычным людям, не внесенным покамест в скорбные листы. Прежде он их ненавидел, а рядом с Алей это как-то отступало — то ли потому, что ее близость искупала пребывание в любых списках, то ли она, здоровая и счастливая, предстательствовала за всех здоровых и счастливых. Ладно, живите. Вдобавок она осталась у него. Расчувствовавшись, он чуть не выложил ей всю историю про список и мента, но рядом с ней все казалось такой ерундой, а жалобы — такой пошлостью, что Свиридов смолчал. Можно было когда-нибудь со временем рассказать ей эту историю в третьем лице, как собственный замысел: представь себе, любимая, человека, который попал в таинственный список и сразу выпал из всех остальных… но она снова сказала бы что-нибудь про паранойю и про неумение замечать хорошее, а ему совсем не хотелось ругаться. Она была тихой и нежной, редко он видел ее такой, — рассказывала про детство, он не перебивал.
Утром она убежала на работу, пока он спал. Свиридова разбудил звонок Бражникова.
— Ты «День» читал? — поинтересовался он. У Бражникова была страсть к мерзостям, поэтому он читал «День» от корки до корки и помнил все про всех, хотя не верил ни одному слову ни в одной газете.
— Я «День» не читаю. А что?
— А напрасно! — протянул Бражников. — Там про вас!
Свиридов опять похолодел, как в машине у Сазонова.
Переход оказался резковат.
— Что про нас?
— Как ты пенсионера травил собакой!
Была еще надежда, что он шутит, — но Свиридов не рассказывал ему про старика, и взять эту сплетню Бражникову было неоткуда.