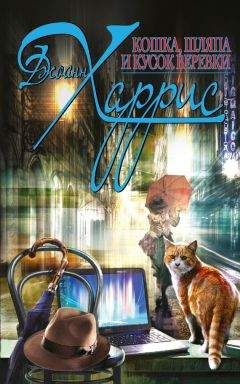Однако мне уже стала надоедать работа в «Крошке зяблике». Жалованье за первую неделю с трудом покроет мои расходы, а угодить Лорану оказалось крайне сложно. Но хуже всего то, что я ему явно приглянулась — это заметно по тому, как он стал заботиться о своей внешности, прилизывать волосы и так далее.
Я знаю, мое дело всегда связано с риском. Вот на Франсуазу Лавери мой нынешний хозяин никогда бы внимания не обратил. И совсем другое дело — Зози де л'Альба; она очаровательна, хотя он этого и не понимает. Иностранцев Лоран недолюбливает, а у Зози еще и внешность какая-то цыганская, а он цыганам никогда не доверял…
И все же впервые за много лет он, к собственному удивлению, стал задумываться, что бы ему надеть; он откладывает в сторону один галстук за другим — этот слишком кричащий, этот слишком широкий, он размышляет, пойдет ли ему тот или иной костюм, он с подозрением принюхивается к туалетной воде, которой в последний раз пользовался, собираясь в церковь на чью-то свадьбу, и замечает, что теперь она приобрела довольно противный кисловатый запах и оставляет коричневые пятна на чистой белой сорочке…
Обычно я вполне способна поощрить подобное к себе отношение, подыграть старику, подогреть его тщеславие в надежде на несколько легких краж — кредитной карточки, или небольшой суммы денег, или даже спрятанной в тайнике шкатулки с золотыми монетами, — уж о такой-то краже Лоран никогда бы не заявил в полицию.
В любом другом случае я бы, конечно, именно так и поступила. Но таких мужчин, как Лоран, пруд пруди. А вот таких женщин, как Янна…
Несколько лет назад, когда я носила совсем другое обличье, я как-то пошла в кино на фильм о древних римлянах. Фильм оказался удручающим во всех отношениях: каким-то слишком прилизанным, с фальшивой кровью, с типично голливудской расплатой за грехи и спасением главного героя. Но более всего меня поразили своим неправдоподобием сцены с гладиаторами и еще — зрители на трибунах, созданные с помощью компьютерной графики: они кричали, смеялись и размахивали руками совершенно одинаково и в строго определенные моменты, точно оживший рисунок на обоях. Я тогда, помнится, все удивлялась: неужели создателям этого фильма никогда не доводилось наблюдать за настоящей толпой? Я-то наблюдала, и не раз — мне как раз зрители обычно гораздо интереснее, чем само представление, — и хотя в данном случае «зрители» фон вполне оживляли, но были абсолютно лишены индивидуальных черт, да и поведение их отнюдь не отличалось естественностью.
В общем, Янна Шарбонно напоминает мне тот продукт компьютерной анимации. Или неудачный плод чьего-то воображения. Случайному наблюдателю Янна может показаться фигурой вполне реальной, а на самом деле она всего лишь рисованный персонаж, действующий исключительно по велению своего создателя. К тому же я не вижу у нее ауры, а если аура у нее все-таки есть, то, значит, она мастерски научилась скрывать ее за своими ничего не значащими действиями, как за надежным щитом.
Зато в ее детях так и светится яркая индивидуальность. У детей вообще аура обычно гораздо ярче, чем у взрослых, но Анни, безусловно, сильно выделяется даже среди детей: ее аура цвета крыла синей бабочки, беспечно порхающей в поднебесье.
Кроме того, у нее имеется и кое-что поинтересней — нечто вроде тени, следующей за ней по пятам; я эту «тень» видела не раз, когда они с Розетт играли в переулке возле chocolaterie. Пышные «византийские» волосы Анни вспыхивали золотыми искрами в лучах полуденного солнца, она держала сестренку за руку, а маленькая Розетт с наслаждением топала прямо по лужам и по пестрым мокрым булыжникам в своих ярко-желтых резиновых сапожках.
Чья же это тень? Кошки, собаки?
Ладно, это мы выясним. Выясним непременно, дайте мне только время. Дай мне время, Нану. Просто дай мне время.
8 ноября, четверг
Тьерри сегодня вернулся из Лондона — принес целый мешок подарков для Анук и Розетт и дюжину желтых роз для меня.
Было уже четверть первого, и я минут через десять собиралась закрываться на обеденный перерыв. Я как раз перевязывала розовой лентой подарочную коробку с миндальным печеньем, мечтая хотя бы часок провести спокойно с детьми (в четверг Анук в школу не ходит). Привычным жестом, повторенным тысячи раз, я завязала красивый бант и провела по туго натянутым концам ленты острием ножниц, чтобы получился красивый завиток.
— Янна!
Ножницы выскользнули из рук, испортив завиток.
— Тьерри! Ты же только завтра должен был приехать!
Тьерри — мужчина крупный, высокий и немного тяжеловесный. В своем кашемировом пальто он практически заполнил собой весь небольшой дверной проем. У него открытое лицо, голубые глаза и густые каштановые волосы, почти не тронутые сединой. Но его руки богача по-прежнему привыкли работать: ногти тщательно отполированы, а на ладонях мозоли и трещины. От него исходит запах сухой штукатурки, кожи, пота, jambon-frites[23] и, временами, преступно-запретный аромат толстой сигары.
— Я по тебе соскучился, — сказал он и поцеловал меня в щеку. — Прости, что не сумел вернуться к похоронам. Что, было ужасно?
— Нет. Просто очень печально. Никто не пришел.
— Выглядишь ты просто потрясающе, Янна. И как только тебе это удается? Как дела в магазине?
— Нормально.
На самом деле это далеко не так: покупательница, которую он видел, была лишь второй за сегодняшний день, не считая тех, кто заходил просто посмотреть. Но это хорошо, что я была занята, когда в лавке появился Тьерри, — миндальное печенье у меня покупала какая-то девушка-китаянка в желтом пальто, она, несомненно, с удовольствием его съест, но, на мой взгляд, ей куда больше понравилась бы клубника в шоколаде. Впрочем, не важно. Мне нет до этого дела. Больше уже нет.
— Где девочки?
— Наверху, — сказала я. — Телевизор смотрят. Как тебе Лондон?
— Потрясающе. Надо было и тебе поехать.
Между прочим, Лондон я знаю достаточно хорошо: мы с матерью почти год там прожили. Не знаю даже, почему я ему об этом не сказала, почему вообще позволяла ему сохранять уверенность в том, что я родилась и выросла во Франции. Наверное, тоже из-за стремления быть как все, а может, боялась, что, если упомяну о своей матери, он, возможно, станет смотреть на меня совсем другими глазами.
Тьерри — человек солидный. Сын каменщика, выбившийся в люди благодаря удачно приобретенной собственности, он крайне мало подвержен воздействию необычного и неопределенного. У него и вкусы стандартные. Он любит хороший стейк, пьет красное вино, обожает детей, неуклюжие каламбуры и дурацкие песенки, предпочитает, чтобы женщины носили юбки, ходит к мессе, хотя, скорее, в силу привычки; относится к иностранцам без предубеждения, но предпочел бы пореже видеть их рядом с собой. Мне он действительно нравится — и все же мысль о том, чтобы довериться ему… или кому-либо другому…
Впрочем, особой потребности в этом у меня нет. Конфиденты мне никогда не требовались. У меня есть Анук. У меня есть Розетт. Разве мне когда-либо нужен был кто-то еще?
— Что-то ты невеселая, — сказал он, когда девушка-китаянка ушла. — Может, пообедаем вместе?
Я улыбнулась. В мире Тьерри обед — лучшее лекарство от грусти. Есть мне не хотелось, но либо придется обедать с ним, либо он так и проторчит в магазине весь день. Так что я позвала Анук, затем — уговорами и силой — запихнула Розетт в ее пальтишко, и мы двинулись через улицу в кафе «Крошка зяблик», которое очень нравится Тьерри своей «очаровательной обшарпанностью» и жирной едой на грязноватых тарелках, но — по тем же причинам — совершенно не нравится мне.
Анук казалась какой-то беспокойной, а Розетт и вовсе пропустила дневной сон, но Тьерри еще не все выложил мне о своей поездке; на него огромное впечатление производят толпы народа на улицах Лондона, его архитектура, театры и магазины. Его компания восстанавливает и обновляет несколько офисных зданий близ вокзала Кингс-Кросс, а поскольку Тьерри любит сам присматривать за работой, он каждый понедельник отправляется туда на поезде, а домой возвращается только на уик-энд. Его бывшая жена Сара и сын до сих пор живут в Лондоне, но Тьерри все старается убедить меня (словно я в этом нуждаюсь), что они с Сарой давно уже стали чужими друг другу.
А я ничуть в этом и не сомневаюсь: Тьерри вообще увертки не свойственны. Больше всего он любит простой молочный шоколад — плитки в обертке, каких полно в любом супермаркете. Не более 30 % чистого какао. Если дать ему попробовать более горький шоколад, он скривится, как маленький мальчик, и высунет изо рта язык, показывая, что ему невкусно. Мне нравится энтузиазм Тьерри, а его душевной простоте и полному отсутствию всякого коварства я даже завидую. И возможно, зависть эта сильнее моей любви к нему — но разве это так уж важно?