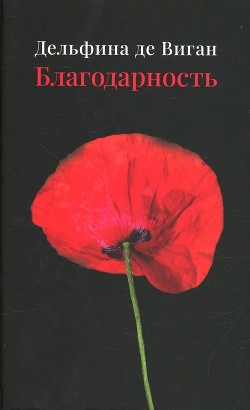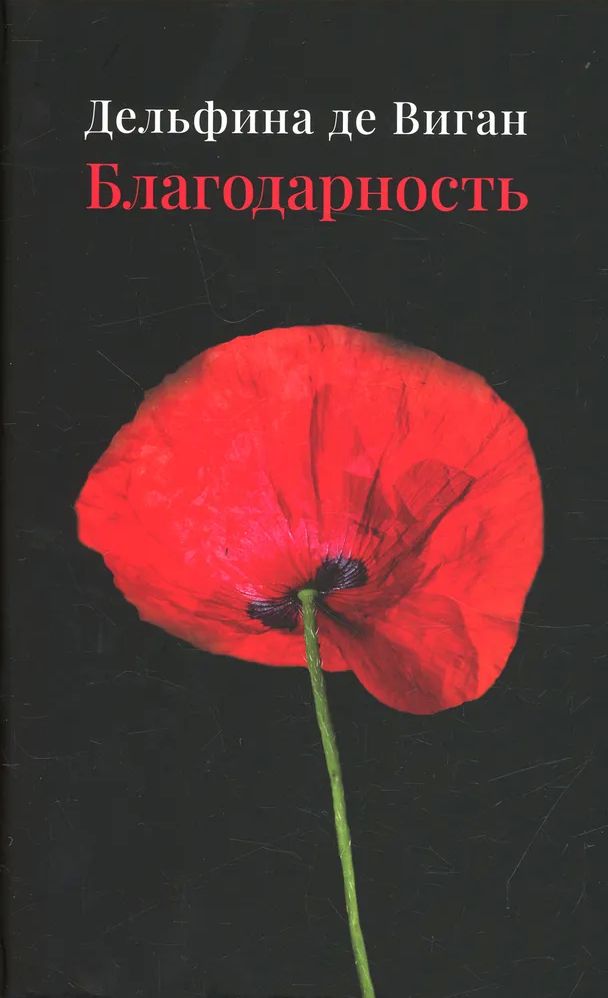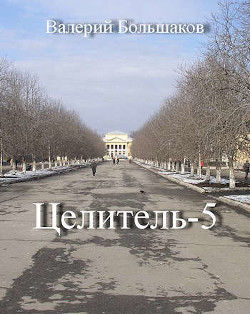Злая директриса меряет комнату шагами, дожидаясь, когда Миша закончит свой рассказ, который ей не очень-то интересен.
— Тем не менее незачем делать из этого трагедию.
— Вы не понимаете.
— Прекрасно понимаю, мадам Сельд. Вы чувствуете себя в долгу перед этими людьми и считаете, что поступили неблагодарно. Совершенно справедливо считаете, кстати.
— Нет, дело не в этом. Это нечто другое. Нечто намного большее.
— В любом случае, уже слишком поздно. Вы будете не первым человеком, который не отдал свои долги! И зарубите на носу: когда вам уезжать, решаю я.
Стареть — значит учиться терять.
Принимать на баланс новые убытки, новые изменения, новые утраты. Вот как я это вижу.
Сплошные расходы. Ни циферки в графе «Прибыль».
Переставать бегать, шагать, наклоняться, опускаться, подниматься, тянуться, сгибаться, поворачиваться с боку на бок, ни вперед, ни назад, ни утром, ни вечером, вообще никогда. Безостановочно приспосабливаться.
Терять память, терять ориентиры, терять слова. Терять равновесие, зрение, чувство времени, терять сон, терять слух, терять разум.
Терять то, что тебе было даровано, то, чего ты добился, то, что ты заслужил, то, за что ты боролся, то, что, как тебе казалось, будет с тобой навсегда.
Примиряться.
Перестраиваться.
Обходиться без.
Пропускать.
Дождаться дня, когда больше будет нечего терять.
Все начинается с пустяков. А потом процесс ускоряется.
Едва попадая в дом престарелых, люди уже несут потери. Одна крупнее другой.
Колоссальные потери.
И каждый понимает: как бы он ни старался, начиная этот бой с нуля каждый день, рано или поздно он неизбежно потеряет все.
Я постучался в дверь, но из комнаты никто не отозвался.
Я поискал в коридоре, полагая, что пациентка еще не пришла с обеда. Медсестры сказали, что видели, как она входила к себе в комнату.
Я возвращаюсь к двери, снова стучусь. Не получая ответа, открываю дверь и осторожно захожу в комнату. Миша сидит в кресле, ее взгляд блуждает. Лицо кажется изможденным. Она поворачивается ко мне и улыбается. Мы давно не виделись: она болела, пришлось отменить несколько занятий. Мне хватает нескольких секунд, чтобы понять: конец близок.
Мне так больно, словно меня ударили кулаком в живот. Сам не знаю, почему мне настолько жаль эту даму. Я готов расплакаться.
— Добрый день, Миша, как ваши дела?
Она снова улыбается мне, но ничего не говорит.
— Вы утомлены?
Она едва заметно кивает.
— Давайте я приду в другой раз.
Она не сводит с меня взгляда и молчит.
— Мне побыть с вами?
— Да.
Беру стул и подсаживаюсь к ней.
— Я хотела вам сказать… Это…
Она изображает, как что-то убегает от нее, растворяется в воздухе. Столь явный жест бессилия потрясает меня.
— Это все…
— Нет-нет, Миша, это все не напрасно. У вас сейчас упадок сил, такое бывает, вам нужно отдохнуть, и тогда мы сможем снова делать упражнения.
— Ох, нет, я… но если бы вы…
— Я побуду с вами немножко, не тревожьтесь. Мари вам звонила?
— Да, но…
Снова этот жест бессилия.
— Я… не могу… поэтому… нужно…
— Она сообщает вам новости?
— Да. Она… зво… но я не… слишком… далеко… всегда нужно… это так ела… ложно.
Она виновато смотрит на меня.
— Успокойтесь, Миша, все наладится.
Мы погружаемся в молчание.
Я мог бы предложить игру, достать из рюкзака ноутбук и показать несколько картинок или включить музыку. Какие-нибудь песни, которые были популярны в годы ее молодости. Это помогает пробудить воспоминания. Пациентам нравятся такие занятия.
Но я молчу.
Иногда надо впускать в сердце пустоту, которая остается после утраты.
Не отвлекаться ни на что. Смириться с тем, что больше сказать нечего.
Просто сидеть рядом.
Держаться за руки.
Мы сидим рядом, она закрывает глаза. Я не смотрю на часы.
Я чувствую, как ее ладонь согревается в моей.
Кажется, по ее лицу пробегает волна расслабления.
Спустя несколько минут я встаю.
— Я приду проведать вас завтра, Миша.
Я уже стою у двери, как вдруг она окликает меня:
— Жером?
Она редко называет меня по имени, потому что забывает его.
— Да?
— Спагетти.
Я вижу их так, словно сам попал туда — в эти пустынные, иссушенные земли, на эти разбитые дороги, которые появляются в середине ее фраз, когда она пробует говорить. Безотрадные, лишенные света пейзажи, пугающие своим однообразием, и ничего, совсем ничего, за что уцепиться взору. Так, наверно, должен выглядеть конец света. Она только начинает фразу, а ей уже не хватает слов, она шатается, будто вот-вот рухнет в пропасть. Нет больше ни маяков, ни ориентиров, потому что ни одна тропинка не смогла бы пересечь эти бесплодные земли. Слова исчезли, их не воскресить никакими образами. Ее голос начинает погибать, задыхаясь в тисках поражения. На его пути возникают неведомые и непреодолимые препятствия. Какие-то темные массы, к которым не подберешь названия. Ей совершенно нечем поделиться. Каждая из ее попыток падает с высоты в бездонный колодец, из которого уже ничего не поднять. Она заглядывает мне в глаза и ищет в них подсказку, ключ, окольную тропу. Но я ничем не могу ей помочь.
Нить общения с миром рвется.
Молчание побеждает. И больше ничто не удерживает ее.
МАРИ
Я не позвонила, чтобы предупредить ее. Телефонные разговоры стали такими бестолковыми и путаными, что всякий раз, когда я кладу трубку, меня долго не покидает мерзкое ощущение проигрыша.
Я вхожу в комнату тихо, чтобы не напугать Миша.
Она замерла у окна, в нейтральной зоне между креслом и кроватью: кажется, я застигла ее в момент душевного колебания. Глядя на нее, я с ужасом понимаю, насколько сильно она изменилась за те несколько недель, что мы не виделись.
Она стала старухой.
Теперь уже точно.
На ее лице измождение, кожа потеряла прежний цвет, тело ссохлось, движения сделались совсем неуверенными. Я не могу допустить, чтобы она поняла, как мне больно видеть ее в таком состоянии, мой взгляд не должен выдать ни капли испуга или потрясения, мои руки должны раскрыться и обнять Миша. Я сохраняю на губах улыбку и приближаюсь к ней.
Она смотрит на меня, не веря своим глазам.
Я пытаюсь представить себе, какую работу совершает в эти мгновения ее мозг, чтобы она могла сообразить, что к ней подхожу именно я.
— Ох, Мари, а доктор?
Размер моего живота впечатляет Миша. Она взволнована.
Мы обнимаемся, она держится за решетку кровати, чтобы не шататься.
— Послушай, я только и делаю, что лежу, с утра до вечера и с вечера до утра, я уже с ума начинаю сходить, так что мне было просто необходимо сбежать! Я хотела увидеть тебя.
— Это… это тот… молодой… Же… Это тот парень тебя предупредил?
— Да, Жером Миллу позвонил мне. Рассказал, что уезжает на неделю в отпуск и что беспокоится за тебя: по его мнению, в последнее время ты какая-то грустная. Его тревожило, что целую неделю тебя никто не будет навещать, ведь у мадам Данвиль грипп, ты знала?
— О… Но он не… Это не… и все же… а ты, тебе… надо осторожно.
— Присядь, Миша, я к тебе ненадолго. И я тоже присяду. Не бойся, я туда и обратно на такси. К тому же начиная с этой недели ребенку больше не угрожает опасность, даже если роды состоятся раньше срока.
Она садится.
— Ага. Так лучше.
Я смотрю на нее. Мы обе растроганы.
— Как же я рада видеть тебя, Миша!
— И я. Рада.
— Тебе не слишком скучно?
— Немного… но не отчим.
— Знаешь, я тут подумала, раз читать тебе тяжело, давай я принесу плеер и компакт-диски с аудиокнигами. Будешь слушать разные хорошие произведения.