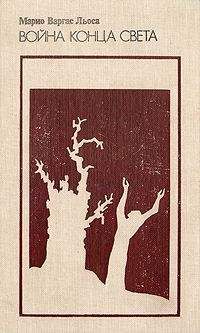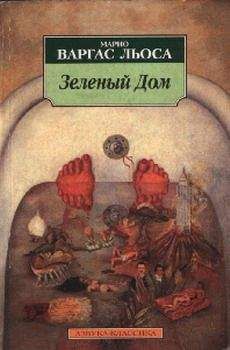Так вот что мучает и томит его, жжет, как раскаленные угли? Неисчислимая стая стервятников, пожирающая падаль, – все, что осталось от Канудоса? «Двадцать пять лет барахтался я в грязи и мерзости политики, чтобы спасти Баию от глупцов и невежд, которые в нужную минуту оказались не в силах взять на себя ответственность, и все это кончилось пиршеством урубу», – подумал он. Но, заслоняя видение гекатомбы, снова возникла перед ним смешная и трагическая фигура, замигали и дерзко выпучились на него косоватые водянистые глаза, снова увидел барон выпирающий подбородок, нелепо оттопыренные уши, услышал сбивчивую речь: «Выше любви ничего нет в мире, только через любовь может человек познать хоть какое-то счастье, узнать, что же подразумевают под этим». Вот оно! Вот что так терзает, мучает и изводит его. Барон отхлебнул коньяку, подержал во рту обжигающую жидкость, потом проглотил ее и почувствовал, как прокатилась по горлу горячая волна.
Он встал; он не знал, что сделает, что ему так мучительно хочется сделать, но понимал, что стоит на каком-то распутье и должен принять решение, последствия которого предугадать невозможно. Но что именно он сделает, чего хочет? Он поставил стакан и, чувствуя, как колотится сердце, как стучит в висках, как струится под кожей кровь, омывая все его тело, вышел из кабинета, пересек залу, потом просторную площадку лестницы-нигде не было ни души, и лампы не горели, но уличные фонари давали достаточно света-и стал подниматься по ступенькам, на цыпочках, так, что и сам не слышал своих шагов, а наверху не колеблясь направился не к себе, а в спальню баронессы, туда, где за ширмой, чтобы немедля оказаться рядом, если позовет госпожа, спала в своем закутке Себастьяна.
Он протянул руку, боясь, что дверь будет заперта, – никогда еще не входил он в эту комнату без предупреждения. Но дверь подалась. Он вошел, притворил ее за собой, нащупал и задвинул щеколду. В плошке, наполненной маслом, плавал фитиль: желтоватый свет ночника выхватывал из темноты часть кровати, голубое одеяло, балдахин и тюлевый полог. Совершенно бесшумно-руки его не дрожали-барон снял с себя одежду. Раздевшись, он на цыпочках пересек спальню и оказался в комнатушке Себастьяны.
Он остановился у кровати, не разбудив спящую. В комнате стоял полумрак-газовый фонарь лил с улицы голубоватый свет, пронизывающий занавеску, – и барон увидел очертания женского тела, увидел, как, морщась, поднимается и опускается простыня. Себастьяна спала на боку, подложив под голову круглую подушечку. Длинные черные волосы в беспорядке рассылались по постели, спускаясь до самого пола. Барон подумал, что никогда не видел Себастьяну непричесанной: если она встанет, волосы упадут, наверно, до пят, и, должно быть, перед зеркалом или чтобы позабавить Эстелу, она заворачивается в свои косы, как в черный шелковый плащ. Он представил себе эту картину, и дремавшая в нем страсть проснулась. Мучившие его по пути сюда мысли: «Как поведет себя горничная? Что, если она закричит и разбудит Эстелу?»– внезапно исчезли, мелькнуло вдруг в памяти лицо Галилео Галля, который-он вспомнил-дал обет целомудрия, чтобы сберечь силы для высших, как ему казалось, целей: для борьбы, для науки. «Я был таким же дураком», – подумал барон. Он-то, разумеется, никаких обетов не давал, но разве это имеет значение, если он так долго отказывался от счастья ради жалкой затеи, которая принесла только горе той, кого он любил больше всего на свете.
Не думая, что делает, почти безотчетно, барон наклонился, протянул одну руку к простыне, а другую-к губам Себастьяны, чтобы заглушить ее крик. Женщина вздрогнула, открыла глаза; барон ощутил чуть влажное тепло ее внезапно напрягшегося тела, которое впервые видел перед собой так близко. Себастьяна не успела ни вскрикнуть, ни вскочить: она лишь сдавленно ахнула, и барон, державший ладонь вплотную к ее губам, почувствовал ее горячее дыхание.
– Не кричи, не надо кричать, – прошептал он, и сам услышал, как дрожит его голос, дрожит не от страха-от вожделения. – Умоляю тебя, не кричи.
Барон сдернул простыню и поверх застегнутой на все пуговицы рубашки стал гладить груди Себастьяны-полные, красиво вылепленные, удивительно упругие для женщины на пороге сорока лет, – чувствуя под пальцами напрягшиеся от холода соски. Сам от себя не ожидая такой нежности, он провел кончиками пальцев вдоль ее носа, бровей, губ, запустил их в волосы, запутал в густых завитках. Он улыбался, чтобы успокоить женщину, безмолвно, недоверчиво, испуганно глядевшую на него.
– Мне уже давно следовало прийти к тебе, Себастьяна, – произнес он, коснувшись губами ее щеки, – прийти в тот самый день, когда я впервые пожелал тебя. Я был бы счастливей, Эстела была бы счастливей, а может быть, и ты тоже.
Он склонился над нею, ища губами ее губы, но Себастьяна, поборов оцепенение, которым сковали ее неожиданность и страх, откинула голову; барон увидел ее умоляющие глаза, уловил ее еле слышный шепот: «Ради всего святого, заклинаю вас всем, что вам дорого… Сеньора, сеньора…»
– Твоя сеньора здесь, и мне она дороже, чем тебе, – словно со стороны услышал он свой голос, и ему показалось, что за него говорит и пытается думать кто-то другой: сам он не ощущал ничего, кроме своего разгоряченного влажного тела. – Тебе не понять… Это все для нее…
Он продолжал водить пальцами по груди Себастьяны, нащупывая и расстегивая пуговицы, а другой рукой обхватил ее затылок, приподнял ее голову, чтобы найти ледяные, плотно сжатые губы. Себастьяна мелко дрожала, стуча зубами, тело ее вмиг покрылось испариной.
– Открой рот! – резко приказал он, хотя нечасто позволял себе такой тон со слугами и рабами-в ту пору, когда у него еще были рабы. – Я ведь могу и силой заставить тебя быть послушной!
И Себастьяна, в которой его властный голос пробудил вековечный страх и привычку повиноваться, исполнила его волю, но ее лицо, едва различимое в голубоватом сумраке спальни, исказилось гримасой отвращения, сменившего ужас. Однако барону уже не было до этого никакого дела: прильнув к ее губам, он продолжал расстегивать и обрывать пуговицы, стягивать рубашку с ее плеч. Дух и уста Себастьяны были покорны ему, но тело еще продолжало сопротивляться: страх, оказавшийся сильнее боязни пойти наперекор воле хозяина, заставлял ее бороться. Она вся подобралась, словно окаменела, и когда барон, вытянувшийся на кровати рядом с нею, попытался обнять ее, он натолкнулся на щит ее рук. Он слышал ее умоляющий шепот и знал, что она вот-вот заплачет, но лишь удвоил усилия, стараясь сорвать рубашку. Ему удалось обхватить Себастьяну за талию и прижаться к ней всем телом. Он не знал, сколько продолжалась эта схватка, но сопротивление только подхлестывало его желание, и в конце концов он прижал Себастьяну к кровати, покрывая долгими поцелуями ее шею, плечи, грудь, стараясь разомкнуть ее колени. Потом он начал целовать ее тело, вдыхая его аромат, приникая лицом то к бедрам, то к животу, чувствуя, как очищается его душа от тоски и горечи, освобождается от тягостных воспоминаний о непоправимой беде. В этот миг кто-то прикоснулся к его спине. И барон, наперед зная, кого он сейчас увидит, поднял голову: у кровати стояла и смотрела на него Эстела.
– Эстела, любимая… – нежно проговорил он, не изменив позы. – Я люблю тебя, как никого никогда не любил. Я здесь потому, что я хочу быть еще ближе к тебе.
Он чувствовал, как судорожно подергивается тело Себастьяны, слышал, как неутешно она рыдает, изо всех сил прижимая ладони к глазам, и видел, что баронесса по-прежнему стоит рядом, разглядывая его. На лице ее не было ни испуга, ни гнева, ни ужаса– только выражение какого-то странного интереса. Длинная рубашка полупрозрачной дымкой окутывала ее фигуру, которую пощадило время; силуэт ее был строен и прекрасен; полутьма спрятала седые нити в ее светлых волосах, покрытых сеткой; несколько прядей выбились из-под нее. Барон не мог видеть, прорезала ли сейчас ее лоб глубокая морщина-верный признак гнева, единственного чувства, с которым Эстела никогда не могла совладать, но брови ее не хмурились, а рот был полуоткрыт, усиливая выражение интереса, спокойного любопытства и легкого удивления. Впервые после той ночи в Калумби барон видел, что внимание его жены привлекло что-то происходящее вовне ее наглухо запертой души… После той ночи он забыл, что на лице ее может появиться иное выражение, кроме нелюдимого безразличия. То ли от голубоватого полумрака, разлившегося по комнате, то ли от тех чувств, которые она испытывала, баронесса казалась бледнее, чем обычно, и он понял, что она сейчас разрыдается. На поблескивающем деревянном полу смутно белели ее босые ноги, и барон в безотчетном порыве вдруг бросился перед женой на колени. Эстела не двинулась с места, пока он целовал ее пальцы, ступни, пятки, страстно шепча о своей любви, о том, что он боготворит ее-прекраснейшее творение природы, и поклоняется ей и навсегда останется в неоплатном долгу за то счастье, которое она ему дарила. Снова прикоснувшись к ее тонкой щиколотке, барон почувствовал, что Эстела шевельнулась, поднял голову и увидел, что ее рука, несколько мгновений назад дотронувшаяся до его спины, теперь снова тянется к нему; с естественным и мудрым достоинством, неизменно сопровождавшим каждое ее движение или слово, она неторопливо и мягко, умиротворяющим и нежным жестом, в котором не было ни укоризны, ни враждебности, а только всепонимающая и всепрощающая ласка, опустила ладонь на его голову, это прикосновение потрясло барона и наполнило его сердце благодарностью. Угасшее было желание вспыхнуло вновь-и с новой силой. Взяв руку жены, он поднес ее к губам, поцеловал, а потом, не отпуская, повернулся к кровати, где, закрыв лицо, затаилась Себастьяна, и положил свою ладонь на ее смуглый живот.