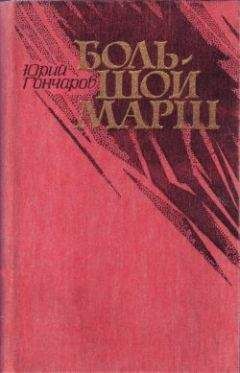– Пошли! – толкнул Иван Мальвину от дверей в зал. – Покажем этим юным леди экстракласс!
Увлекая Мальвину, он вышел на самую середину зала. С озорной ухмылкой, заблестевшими глазами, – какое представление он сейчас покажет! – он вскинул руки; ломаясь зигзагами, точно его подстрелили, перебили ему кости сразу в нескольких местах, он низко упал, почти на самые доски пола; изворачивая руки, прянул оттуда вверх, – весь очень легкий, пружинный, гибкий в своих движениях. Должно быть, он в самом деле был неплохой танцор, где-то видел хороших исполнителей таких танцев. Но в этот миг магнитофон, басисто растянув звук, замолк.
Танцующие пары остановились, распались. Несколько девчонок подбежали к магнитофону, стали щелкать клавишами. Иван отстранил их, сам пощелкал клавишами, повертел, даже потряс аппарат.
– Все, кончен бал! – сказал он, возвращая его девчонкам. – Испекся. Можете расходиться по домам.
Девчонки лупили на него глаза – откровенно, пристально, со всех сторон, иные – в упор, прямо в лицо. Самые старшие из них были ему до половины груди, большинство – чуть выше пояса; он возвышался в их окружении, как дядя Степа на книжных рисунках. Сейчас они только смотрят, потом в своем кругу будут обсуждать, а уж завтра их вести разойдутся по всей деревне во все концы…
Вечер пропадал, и ничего поделать было уже нельзя. Мальвина чувствовала эту безнадежность – точно что-то ощутимо уходило у нее из-под ног, из ее рук, от нее самой. Но она уже ничего не могла предложить, придумать, и не предлагала, у нее не было никаких средств и способов удержать невозвратимо ускользающее время.
– Иду спать! – решительно сказал на улице Иван. Чувствовалось, что усталость берет над ним верх. Шаги сделались тяжеловатыми, валкими, потяжелела рука, которую он опять положил Мальвине на плечо.
– Стоп, а где же письмо?! – спохватился он. Сунул руки в карманы брюк, пошарил в куртке. – Вот оно! Тьфу, даже напугался… Еще бы письмо потерять – и полный порядок.
– Так у тебя одно только письмо на буровую? А наврал-то! Динамит, военная тайна!
– Так оно и есть. В этом конверте тайна, да еще какая!
– А что в нем?
– Откуда ж я знаю. Мое дело – солдатское. Привез, отдал, приказ исполнил, а больше знать не положено. Может, там просто: «Вася, готовь поллитру, жди в гости!»
Мальвина шла, все время касаясь Ивана, в ногу с ним, с волнением чувствуя рядом с собой его сухое, крепкое тело.
Переулок с ее домом тонул во мраке. Это была какая-то совсем колодезная, непроницаемая чернота, в которой всё растворилось и исчезло, и Мальвина ждала, что когда они свернут в переулок с центральной улицы, от электрического света, Иван остановит ее, прижмет, и они будут целоваться. Она хотела этого, так должно было произойти по всей логике событий этого вечера, и даже наметила место, где им удобно будет постоять: слева при входе в переулок в двух домах подряд сегодня нет хозяев, уехали гостевать в город; из палисадников над тротуарной дорожкой нависают густые кусты сирени, и в черноте под ними их никто не разглядит и не услышит.
Но Иван не остановился. Под теплой тяжестью его руки она дошла с ним до своего дома.
Машина угадывалась по запаху масла и резины. Контуры ее расплылись, смешались с мраком, она казалась больше своих размеров, – будто стоял грузовик, а не «газик»-вездеход.
– Найдется у тебя что-нибудь в голова́ положить? – спросил Иван. – Ватник какой-нибудь старый?
– Зачем тебе ватник, я тебе в доме постелю, на диване.
– Нет, я в машине лягу. В доме душно, а в машине я дверцы распахну. Я привычный.
– Зря. Диван как раз под окном. Окно откроем.
– Не нужен мне диван. Что-нибудь в голова дай – и баста.
– А есть ты хочешь? Идем, я тебе ужин сготовлю.
– Да вообще-то рубануть неплохо…
Иван зевнул, потянулся с хрустом в суставах.
– Ничего себе домик отгрохали! – заметил он, входя следом за Мальвиной на веранду, а с веранды на кухню. – Холодильничек, газовая плита… На баллонах, что ль? И полы-то как блестят!.. Шикарно живете, мадам. Конечно, в таком доме и в деревне жить можно… А ковров-то! – удивился он, заглядывая в дверь гостиной. – У больших начальников таких нет… Твой папа, наверно, кладовщик?
– Просто шофер.
– Ха-ха! Сказки Шахерезады!.. Небось председателя сельпо возит?
– Обыкновенный колхозный шофер.
Иван недоверчиво промолчал.
– А это, я так понимаю, ваши личные апартаменты? – шагнул он к двери в небольшую комнату направо от кухни. – Есенин… – разглядел он на стене портрет. – А это кто же, старичок седой?
– Иван Сергеевич Тургенев.
– А я думал – Хемингуэй. Так, понятно. Значит – кумиры… Теперь мне твои вкусы известны… «Мы все в эти годы любили…» Слушай, – вмешался он в хлопоты Мальвины над вынутой из холодильника снедью, – не трудись, не надо этого ничего… Устал я, есть не хочется. Честное слово! – Он опустился на деревянный кухонный диванчик, привалился к спинке. – Дай-ка лучше опять квасу… Кваску твоего выпью – и все. Квас у тебя замечательный…
Мальвина вышла на веранду к лазу в погреб и, прикрыв за собой дверь, на секунду приостановилась, сжала в руках кружку, зажмурилась. Голова ее плыла, и всю ее пронизывало такое чувство, точно все это не с нею и не в ее доме происходит, а – непонятно с кем и неизвестно где…
Она вынесла из погреба квас, вернулась в кухню. Иван спал на диване, в той же позе, в какой она его оставила: видно, уснул сразу же, как только она вышла за дверь. Голова его чуть откинулась назад, склонилась набок. Во сне все черты его лица смягчились, ушло острое, угловатое, выступило что-то детское, слабое, рождающее к нему нежность.
Мальвина тихо присела возле, с кружкой в руках, забыв поставить ее на стол, не решаясь разбудить Ивана голосом или прикосновением. Тикали кухонные ходики, в тишине дома и ночи их звук был отчетлив и нетороплив, она смотрела на Ивана, на слегка приоткрытые губы, смуглые веки с мелкой штриховкой ресниц, на разметавшиеся пряди темных волос – и как будто бы перед нею был давно любимый ею человек, ее муж, который просто долго отсутствовал и вот наконец вернулся туда, где его все время ждали…
1978 г.
Долгий пасмурный рассвет – и первый по-настоящему осенний день в городе: мглистое, тяжело волокущееся небо над крышами, стометровая телевизионная башня в рубиновых огнях наполовину срезана туманом, мелкий, нудный, как из сита, дождь, не затихающий ни на минуту, порывистый холодный ветер, теребящий в лужах свинцовую рябь, срывающий с мокрых деревьев желтые листья. Они кувырком, наперегонки летят вдоль улиц, прилипают к слезящимся дождевой влагой магазинным витринам, к передним стеклам автомашин с качающимися «дворниками», колко, шершаво бьют прохожих в лицо. Мокры, плачут дождевой влагой и слизью несохнущего клея и все афишные щиты и тумбы, на которых поверх старых, потемневших афиш наклеена новая: «…октября… в зале филармонии… концерт…» – и крупными, почти полуметровыми красными буквами, отчетливо видными издалека, откуда на афише еще не разобрать ничего: «…Валентин Балабанов».
Вечером, едва дождавшись, когда ее подруги придут после работы к себе домой, Людмила Андреевна Балабанова, – она сохранила за собой эту фамилию, а настоящая ее фамилия Вырина, – звонит им всем по очереди и, захлебываясь словами, распирающими ее чувствами, почти кричит в телефонную трубку:
– Ты видела афиши? Как тебе нравится эта хохма – Валька у нас на гастролях! Еще год назад ни на каких условиях его сюда было не зазвать, такая знаменитость, приглашения со всех сторон, концерты только по столичным городам – Киев, Минск, Ташкент, Рига, заграничные турне одно за другим, я уже счет потеряла всем этим странам, и вот – пожалуйста! Причем, это я совершенно точно знаю, сам просился. И как еще, говорят, рад был, что ему тут один вечер дают… Представляешь, до чего, значит, у него дошло, если он из Москвы в такую провинцию едет. Всю ночь в поезде, это в нашем-то жестком, чаю не допросишься, – и всего-то за двести пятьдесят целковых. Даже это ему теперь деньги! Довела же его эта Эллочка! Вот уж действительно людоедка. Я это с самого начала знала, да и все понимали, только один он не видел и не понимал, какая она пьявочка с голубыми глазами… Ты знаешь, как он сейчас выкладывается? По десять концертов на неделе! Да ни один уважающий себя артист столько петь не будет. И ради чего? Только чтобы ее в импортные дубленки одевать, бриллиантовые перстни на каждый палец… Где же при такой сумасшедшей гонке по-настоящему над собой работать, обновлять репертуар? У него же никакого роста, он уже давно остановился, одно и то же, ничего не прибавляется… Я помню, когда он начинал, когда мы вместе были – что ни турне, то обязательно новые вещи. Хотя бы три, четыре. А сейчас он и то растерял, что прежде было. В прошлом месяце его по телевизору показывали. Ты не смотрела? Ну, просто убожество! Как не стыдно ему выходить, всё что он пел – это он и десять лет назад пел, и даже гораздо лучше. Гораздо! Никакой же голос такую нагрузку не выдержит! Магнитофон, бесчувственную железку, столько крутить – и то сломается, а тут – живое горло…