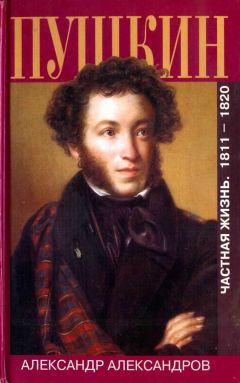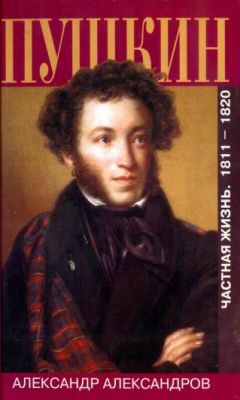Молодые графинюшки рассказывали ему предания крымской старины. Крым был близкой и славной страницей российской истории. Он слушал с упоением рассказы о столице крымских ханов Гиреев, Бахчисарае, о сказочных богатствах, собранных когда-то там, и о нынешнем запустении. Одна из историй особенно запомнилась ему. О молодой Марии Потоцкой, привезенной из похода в Польшу одним из Гиреев, о христианке, в которую влюбился мусульманин и поместил ее в свой гарем, но позволил сохранить веру отцов. О ее неожиданной, загадочной смерти и тоске хана, о мраморном фонтане, который он соорудил в ее память, который все теперь называли «фонтаном слез».
Когда Софья Потоцкая рассказывала Александру историю девушки из ее рода, на глазах ее навернулись слезы, а щеки побледнели.
— Да ведь не может быть, чтобы хан, поместив ее в свой гарем, не навещал ее, как навещал он других наложниц! — сказал Пушкин.
— Может! Может! — в один голос вскричали обе красавицы.
— Не может, — подразнил их Пушкин.
— Может! Как вы, поэт, и ничего не смыслите в высокой чистой любви! — возразила еще раз Софья. — Мама, — обратилась она к старшей Потоцкой, которая подошла к их кружку, — ведь история бедной Марии Потоцкой не просто легенда, это правда? Скажи господину Пушкину.
— Разумеется, правда, — слегка усмехнулась Софья Константиновна. Усмехнулась она потому, что, когда она появилась в Крыму в первый раз и в первый раз посетила Бахчисарай, эту легенду о девушке-христианке никак не связывали с именем Потоцких. Она сама придумала, что эта христианка была из славного рода Потоцких. До того девушку по имени никто не называл, она была безымянной, да и родом, говорили, то ли из Грузии, то ли из Польши. — Она умерла от тоски по родине, — добавила графиня, глядя на Пушкина. — Для поляка нет ничего святее родины.
в которой Жуковский принимает у себя по субботам петербургских литераторов. — Александр Алексеевич Плещеев. — Камергерский ключ Александра Тургенева. — Усатая княгиня Голицына. — Последние новости двора. — Пушкин с друзьями пьют водку в трактире. — Ссора с Кюхельбекером из-за эпиграммы. — Дуэль Кюхельбекера с Пушкиным. — «На четырех шагах да в глаз». — Пистолеты заряжены клюквой. — Осень 1818 года.
С возвращением в Петербург из Москвы Жуковский стал принимать у себя по субботам. Он нанимал квартиру с давним другом Александром Алексеевичем Плещеевым, Черным Враном по «Арзамасу».
Плещеев, совершенный парижанин в речах и манерах, был сосед Жуковского по имению. В юности он живал в Петербурге, где приобрел некоторую известность своим необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно мастерски он умел кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. Так же легко он вошел в образ француза, и с первого взгляда его ни за что нельзя было принять за русского: все поговорки, прибаутки и шуточки были у него французские. К тому же и на лицо он был темен, за что и получил прозвище Черного Врана. Он писал русские и французские стихи, но в печать ничего не пускал; он прекрасно музицировал, сочинял романсы, но, пропев, их тут же забывали; он играл на домашнем театре, но его драматический талант был широко известен лишь в узких избранных кружках. В молодости он мелькнул в Петербурге и надолго сошел со сцены. Женившись, он после свадьбы до самой смерти супруги своей, Анны Ивановны, проживал в имении, и в Петербург не показывался: тому была своя причина. Женился Плещеев по указанию Павла I, чтобы прикрыть чужой грех. Жена его, урожденная графиня Чернышева, дочь генерал-фельдмаршала по флоту графа Ивана Григорьевича Чернышева, очень любимого Павлом, фрейлина императрицы Марии Федоровны, после смерти отца в 1797 году перед всем двором обнаружила стыд свой; тут очень кстати случился Александр Алексеевич, который был вхож в дом отца ее. Молодых скоро обвенчали, и они надолго сокрылись в деревню. После смерти супруги в 1817 году он вернулся из деревенского своего заточения в Петербург, привез старшую дочь на выданье и двоих сыновей, черномазых цыганят, столь похожих на отца, что их тут же прозвали Воронятами, и устроил их в Благородный пансион при Педагогическом институте.
Повертевшись в Петербурге и, видимо, восстановив прежние связи. Черный Вран по протекции своего дальнего родственника Карамзина попал в чтецы к императрице Марии Федоровне. Вечерами читал он ей и близкому ее обществу Мольера и другие драматические произведения, он читал пьесы так искусно, что никогда не называл действующих лиц, а означал всякий новый персонаж только изменением голоса. Вскоре его пристроили и в театральную дирекцию, где он занимался французским репертуаром. Жуковский любил приятеля, хотя тот был человек вполне ничтожный, однако, надо отдать ему должное, славный от природы актер.
Когда принимали гостей, Плещеев частенько сиживал за роялем и наигрывал меланхолические импровизации. Так было и на сей раз, когда раньше всех забежал вездесущий Александр Иванович Тургенев, который называл всех собиравшихся у Жуковского «праздношатающимися авторами и литераторами», причисляя и себя самого к таковым.
Тургенев недавно получил камергера, и сегодня он надел золотой с бриллиантами камергерский ключ, на огромной розетке из голубой андреевской ленты, прикрепленной к левой фалде фрака сзади, над карманным клапаном, поскольку должен был ехать на бал к великому князю.
Стесняясь своего камергерства, он стал рассказывать о том, как брат Николай рассвирепел, когда узнал о камергерстве, и назвал сию должность темным пятном тургеневской фамилии. Николай бывать в обществе не любил, он предпочитал обществу уединение и сидячую жизнь. Александр Иванович благоговел перед младшим братом и столько говорил о нем, что весь превратился в кадило, вечно курящееся перед его образом, в трубу, громогласно гремящую во все концы света о его гениальности.
— Не знаю уж, гордиться ли мне тем, что никому еще не вздумалось поздравить меня, а все приходят с изъявлением соучастия в том, что меня так неожиданно постигло? — говорил Александр Иванович, искренне недоумевая. Василий Андреевич молча курил сигарку, к которым в последнее время пристрастился. — Княгиня Наталья Петровна оскорбилась равнодушием моим (ибо я скрыл от нее мое огорчение) и рассказала при сем случае, с каким восхищением приняла сию милость фамилия графа Чернышева при пожаловании графа, не знаю, уж которого она имела в виду.
— Вполне возможно, что моего тестя, — вставил Плещеев, обернувшись через плечо от рояля. — Но было это, видимо, во времена его молодости. Усатая Голицына живет, по-моему, уже при четвертом императоре.
— Да, ей под восемьдесят, — вспомнил Василий Андреевич, попыхивая сигаркой. — И она кого хочет отчитает, милый Шушка. Честно говоря, я и сам ее побаиваюсь…
— Да еще граф Лаваль вчера целый час мне доказывал, как много это значит в мнении государя. — Александр Иванович расхохотался. — И лучшее его доказательство было то, в год не более как два камергера являются в «Северной Почте», в отделе объявлений, кто куда выехал, а всего прочего — великое множество…
— Какие еще новости? — меланхолично спросил Жуковский.
— Вы хотите новостей, то есть милостей? — вскричал, обрадовавшись Тургенев. Он целыми днями переносил новости из одной гостиной в другую. — Пожалуйте, слушайте. Вот они: Александр Львович Нарышкин — канцлер всех орденов, а на его место главным директором театральной дирекции князь Тюфякин…
Плещеев кивнул головой, — как чиновник театральной дирекции, он уже знал об этом.
— Это не новость, — поддержал друга Жуковский. — Что еще?
— Кирила Нарышкин — гофмаршал. Алексей Васильчиков, что женат на Архаровой, шталмейстером и сидеть в Конюшенной конторе с жалованьем. Альбедил — бриллиантовую Анну, князь Яков Иванович Лобанов получил 1-го Владимира, Кикин — в другой раз бриллиантовую Анну, Соколов — 2-го Владимира, граф Ламберт — тоже, Рибопьер, граф Лаваль, князь Оболенский (московский куратор), граф Пален (министр) и князь Хованский (Капелька) — тайными советниками. — Новости сыпались как из рога изобилия. — Филарет, епископ, — 1-ю Анну, Филарет, московский архимандрит, — 2-го Владимира, княжна Вяземская (племянница Кочубея) и Голицына, дочь бывшего пензенского губернатора, — фрейлины. Забыл, Родофиникин, Дивов — бриллиантовую Анну. Граф Санти — сенатором. Мелких милостей довольно, но все по двору, и более — великого князя Николая Павловича… Колычев, Байков и ваш покорный слуга — камергерами…
При этом о своем камергерстве он снова отозвался крайне пренебрежительно и даже повторил шутку князя Вяземского, что римское правительство венчало головы лавровыми венками, а наше — венчает жопу.