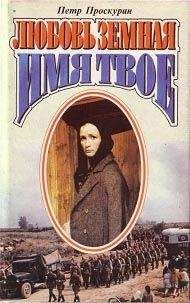Брюханов так и не закурил, смял в горсти папиросу, швырнул ее под ноги и рванул ворот кителя, блестящие пуговицы посыпались, брызнули в разные стороны.
— Послушай, Аленка, — сказал он хрипло, — может, тебе показалось, а если ничего не было? Возьмем и забудем… забудем и никогда больше не вспомним… Так, минутная твоя фантазия.
Аленка, дрожа бледными ноздрями, оторвалась наконец от степы, завороженно пошла к нему с широко раскрытыми, немигающими глазами; ей и самой на какой-то миг показалось, что ничего не было, что вот сейчас оба они расхохочутся, прильнут друг к другу, она вдохнет пропотевший, пыльный запах его одежды и все кончится. И остановилась.
— Прости, Тихон, ты должен меня понять…
— К черту! — оборвал ее Брюханов, в одно мгновение опять выходя из себя. — Почему я должен всех понимать, все взваливать на свои плечи? Почему? По какому закону? А кто меня поймет? Хватит, я слишком много и без того волоку, это уже сверх всяких сил! Хватит!
— Успокойся, Тихон, — попросила она. — Ну, ударь меня! Так получилось, я ничего не могу изменить. Он слабее тебя, и я нужна ему. Каждую минуту нужна. Я ведь женщина, Тихон, баба, — сказала она потерянно. — Мпе иногда хочется, чтобы меня, как кошку, погладили… А тебя никогда нет… Я нужна ему, я ему нужна больше, чем тебе, без меня он пропадет…
Опять какой-то горячечный озноб пронизал Брюханова с головы до ног, и он уже больше не оглядывался, сейчас только смерть могла остановить его. Широко шагая, он прошел к двери, защелкнул ее на внутренний замок, затем круто повернулся, и на какое-то мгновение словно что толкнуло его назад.
— Что ты делаешь, Тихон? — услышал он далекий испуганный голос Аленки. — С ума сошел… Тихон… Тихон…
Ничего не говоря, не спуская с нее глаз, карауля каждое ее движение, он сорвал с себя китель, сапоги, при этом неловко подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, и она оцепенело следила за ним. Он подошел к ней совершенно голый, и волна от разгоряченного мужского тела накрыла ее.
— Тихон… Тихон…
У нее мгновенно пересохли губы; она хотела остановить его, хотела опереться на стол, судорожно пытаясь хоть за что-нибудь схватиться; ничего не попадалось, и она беспомощно поглядела ему в глаза.
— Тихон, остановись!
— Раз так все легко, — сказал он с незнакомой, изуродовавшей все его лицо усмешкой, — то и это сойдет. Я почти два месяца не был дома…
— Ты с ума сошел… Тихон, стыдно за тебя…
— За меня стыдно, а за себя нет? — одним широким, яростным взмахом он располосовал ей платье сверху донизу, она вскрикнула, пытаясь оттолкнуть его руки.
— Постой… Что ты делаешь? — отчаянные, злые слезы брызнули из ее глаз. — Дурак… Я это платье чуть не полгода шила… Отойди… я сама. — Она быстро сорвала с себя все остальное и, часто дыша, с каким-то дерзким, жарким вызовом глядела на него исподлобья. — С бабой справился… ну что ж, давай…
Он шагнул было к ней с обессмысленными от бешенства глазами, но тут же резко отвернулся и свалился ничком на широкий диван; он сейчас боялся себя, того сжигающего дурмана, что туманил мозг, кружил в сердце.
Аленка запахнула на груди остатки платья, села в кресло и, не скрывая своих голых ног, жадно закурила.
— А теперь? — спросила она, пытаясь с трудом успокоить дыхание. — Дальше что?
— Уходи, чтобы я тебя никогда не видел, — глухо отозвался он, не поднимая головы, — Ксене ничего не говори…
— Ксеню я заберу с собой.
— Ксеню не получишь, никогда не получишь! — вскочил он туго развернувшейся пружиной.
Вздрогнув, она не выдержала и отвела глаза; она опять не узнавала Брюханова и точно впервые видела его, она даже отдаленно не предполагала, что он может быть таким. И в то же время его безжалостность, его слепое безрассудство вызывали в ней протест и она, с трудом удерживая слезы, старалась только не выдать себя и все твердила про себя какие-то пустые, бесцветные слова. Как же, решил, твердила она, почти не видя его лица, решил, как будто на свете больше никого и ничего. Привык! Сила силой, но ведь и правда есть, и совесть есть, ладно, это мы еще потом посмотрим, ладно, подумала она. Ну и что? Дальше что? Странно, что ей не хотелось никуда уходить. Я его ненавижу, пыталась она уверить себя, но никакой ненависти не было, она почувствовала лишь смертельную усталость.
Брюханов тоже остыл, был только слишком бледен; он прошел из кабинета в спальню, тотчас появился снова и швырнул на пол целый ворох платьев; он выдернул их из шкафа прямо с плечиками.
Сжав зубы, она стала одеваться.
— Все свое ты можешь забрать…
— Из твоего дома я ничего не возьму, — отказалась она.
— Зря. Все, что будет напоминать о тебе, я выброшу, сожгу, — незнакомая судорожная усмешка опять наползла, исказила его лицо.
Не отрывая от него глаз, она взяла несколько платьев, послушно бросила их на спинку стула, вот когда ей стало по-настоящему страшно. Куда же она теперь? Туда, где одно только начало, одни только надежды и ничего больше? Ничего прочного? Да, туда, сказала она себе неуверенно.
За дверью послышался голос Тимофеевны, она звала всех за стол, жаловалась, что еда стынет.
— Сейчас, сейчас, Тимофеевна, — отозвался Брюханов. — Давай накрывай на стол… водки поставь, пожалуйста! Слышишь?
— Думаешь, я просто к тебе в Москву в последний раз приезжала? Почему ты тогда не взял и не оставил меня силой? Почему? — спросила Аленка, задыхаясь от душивших ее бессильных слез, бросая ему запоздалый упрек. — Уйди, дай мне собраться…
— Я знаю, что ты сейчас думаешь, — сказал он, останавливаясь у двери и не поворачивая головы. — Да, может быть, я поступил плохо… не смог удержать себя… Но об этом я не жалею, слышишь, ничуть не жалею, думай как хочешь…
Он прошел прямо к столу; Ксеня уже сидела на своем высоком стульчике, повязанная фартуком, и облизывала ложку.
— А Николай что же? Где он? — спросил Брюханов пусто и безразлично, как нечто уже далекое, ушедшее, оглядывая привычную обстановку.
— Вчера только и перебрался в общежитие, — тотчас высунулась откуда-то из-за спины у него Тимофеевна с большим жестяным подносом, которым она пользовалась в минуты крайней растерянности, и на глазах у нее с готовностью заблестели слезы. — С чемоданом ушел, стала было отговаривать, так он… О господи…
— Не надо, Тимофеевна, — глухо попросил Брюханов. — Корми девочку, видишь, вся обвозилась…
Не присаживаясь, он тут же налил полный стакан водки.
— Где твоя стопка, Тимофеевна? Тащи, тащи, — повысил он голос на перепуганную старуху. — За уходящих… пусть им станет лучше…
Утром, каким-то образом узнав о приезде Брюханова, ему позвонил Лутаков и после обычных приветствий и пожеланий с известной долей почтения, ясно давая понять, что он по-прежнему относится к Брюханову как младший к старшему, вот даже навязался на встречу, хотя отлично знал, что Брюханову это было не совсем приятно. Помедлив и выбрав момент, он сразу же добавил, что, если это удобно, он может заехать к Брюханову домой, но тот вежливо возразил, что это ни к чему и что он с удовольствием заглянет в обком, повидает товарищей по работе; он еще не опомнился после вчерашнего и даже с некоторой поспешностью согласился увидеться с Лутаковым, тут же про себя подосадовал, но уже часов в двенадцать был у него. Широкоплечий, почти квадратный, Лутаков встретил его подчеркнуто радушно, с увлечением начал рассказывать о делах в области. Внешне он почти не переменился, но чувство уверенности, весомости сквозило в каждом его движении, в каждом жесте, в манере говорить, отвешивая каждое слово; он даже глаза поднимал неторопливо, как бы нехотя, а говорить научился совсем тихо, так, что к нему поневоле приходилось прислушиваться. И хотя Брюханов был от него в двух метрах, он два или три раза не расслышал его и, забавляясь этим, переспрашивать не стал. Брюханов слушал, смотрел на Лутакова, и его так и подмывало спросить, кто же все-таки слал на него «телеги» в Москву, его лишь удерживала явная неразумность подобного шага, «А может, сам он и не писал, — подумал Брюханов. — Может быть, как-нибудь со стороны незаметно направлял, для этого у него способности есть…»
— А я, Тихон Иванович, хотел с тобой посоветоваться. — Лутаков чуть повысил голос, как бы подчеркивая важность момента.
— Давай, Степан Антонович. — Брюханов все время помнил, что именно конкретно было сказано о Лутакове в дневнике Петрова, резкая, по-петровски беспощадная интонация характеристик неожиданно зазвучала в нем с особо язвительной силой, и он с трудом сохранял сейчас доброжелательный тон.
— Да, во-первых, Тихон Иванович, я хотел перемолвиться с тобой о Чубареве. — Лутаков взял папиросу из большой коробки на столе, тщательно размял ее, но тут же, словно неожиданно вспомнив что-то важное, быстро взглянул на часы и положил папиросу обратно. — Понимаешь, от старости у него это, что ли, становится совсем нетерпим. Увольняет людей направо и налево, сколько специалистов выгнал, а они куда в первую очередь? Они — в обком, с жалобами. Если обком что-нибудь порекомендует, он не только должного внимания не обратит, понимаешь, а еще пришлет раздраженное послание, а то сам заскочит, черт знает чего наговорит, хоть стой, хоть падай. В районном комитете созрело решение о приеме Олега Максимовича в партию, мы бы его сразу же в бюро обкома избрали, легче было бы с ним работать. Куда там! Оскорбился, смертельно обиделся на область.