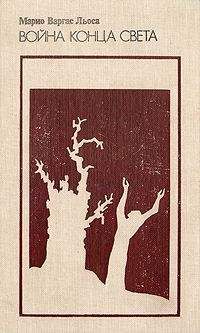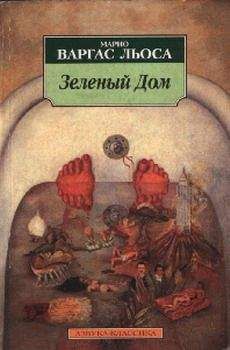Галль умывается, склонившись над лоханью. Стены комнаты испещрены размашистыми каракулями– автографами прежних постояльцев, вырезанными из журналов фотографиями оперных певцов; в углу висит треснувшее зеркало. По щелястому полу снуют рыжие тараканы, на потолке замерла, словно окаменев, маленькая ящерица. Всей мебели в комнате – голый топчан. В забранное решеткой окно проникает с улицы праздничный шум: слышны усиленные громкоговорителями голоса, грохочущий звон литавр, буханье барабана, гомон ребятишек, запускающих бумажного змея. Кто-то произносит речь, перемежая выпады против Баиянской независимой партии, губернатора Луиса Вианы и барона де Каньябравы со здравицами в честь Прогрессивной республиканской партии и Эпаминондаса Гонсалвеса.
Галилео Галль, по-прежнему не обращая на все это никакого внимания, продолжает умываться, а потом вытирает лицо рубашкой, растягивается на топчане, закинув руки за голову-подушки ему не дали, – смотрит на тараканов, на ящерицу. Он думает: «Одолела скука-поможет наука». Он уже неделю в Кеймадасе и, хотя умеет ждать, стал томиться: потому и попросил у Руфино разрешения исследовать его череп. Недоверчивый проводник сначала отказывался, а когда Галль все же уговорил его, замер и весь напрягся, готовый в любую секунду вскочить на ноги. Они видятся ежедневно и объясняются без труда, и Галль, чтобы как-то убить время, стал присматриваться к своему будущему спутнику, вести наблюдения: «Для него небо, земля, деревья-открытая книга; его представления о мире просты и неизменны; его суровый нравственный кодекс, его мораль воспитаны не книгами, потому что он неграмотен, и не религией, потому что он не кажется мне очень богобоязненным, – это итог многолетнего общения с природой и людьми». Пальцы, ощупывавшие череп Руфино, подтвердили наблюдения Галля. Но как быть с его верой в чудо и готовностью к нему? За эту неделю Галль не нашел в поведении проводника никаких проявлений этой черты характера и постоянно-обсуждал ли он с Руфино предстоящее путешествие в Канудос, пил ли прохладительное на станции или бродил по берегу Итапикуру– размышлял об этом. А вот в Журеме, жене Руфино, это пагубное свойство-стремление выйти за пределы опыта, насладиться вымыслом и небывальщиной– совершенно очевидно. И хотя Журема робела и стеснялась в присутствии Галля, ему все же удалось услышать от нее историю о деревянной статуе святого Антония, стоящей у главного алтаря городской церкви. «Много-много лет назад нашли ее в пещере, отнесли во храм. На следующий день смотрят-ее нет, опять в пещере. Ну, опять принесли, привязали к алтарю, а она опять вернулась на старое место, и продолжалось это до тех пор, пока не пришли к нам четверо отцов-капуцинов и сам епископ: они освятили церковь именем святого Антония и в честь его нарекли наш город Сан-Антонио-дас-Кеймадас. Только после этого святой остался и стоит теперь у алтаря».
Когда Галль спросил, верит ли Руфино в эту историю, тот пожал плечами и скептически усмехнулся. А Журема верит. Галлю очень хотелось ощупать и ее череп, но он даже и не заводил об этом разговора: был уверен, что сама мысль о том, что чужестранец прикоснется к голове его жены, была бы для Руфино нестерпима. Да, Руфино человек подозрительный и недоверчивый. С большим трудом Галль уговорил его двинуться в Канудос. Он торговался, набивал цену, придумывал всякие увертки, тянул время и в конце концов согласился, но Галль замечает, что он не любит разговоров об Антонио Наставнике и его людях.
Внимание Галля привлекает доносящийся с площади голос: «Добиваясь автономии и децентрализации, губернатор Виана, барон де Каньябрава и иже с ними хотят лишь одного: сохранить свои привилегии, не допустить, чтобы Баия развивалась наравне с другими штатами страны. Кто такие эти сторонники автономии? Тайные монархисты-дай им волю, они восстановили бы прогнившую империю и уничтожили республику! Но мы на страже! Прогрессивная республиканская партия во главе со своим вождем Эпаминондасом Гонсалвесом не допустит этого!» Это говорит кто-то другой, Галль разбирает почти каждое слово, улавливает мысль, не то что у предшествующего оратора, который лишь невнятно завывал. Подойти, что ли, к окну, посмотреть? Нет, не стоит: все идет своим чередом– зеваки бродят от одного лотка к другому, едят и пьют, слушают бродячих музыкантов, толпятся возле человека на ходулях, который предсказывает судьбу, и лишь время от времени поглядывают на дощатую трибуну, охраняемую вооруженными людьми, но ораторов не слушают. «В их безразличии есть мудрость, – думает Галилео Галль. – Зачем им знать, что Баиянская независимая партия, возглавляемая бароном де Каньябравой, выступает против централизации власти – за нее ратует Республиканская партия, борющаяся с федерализмом, который отстаивают соперники? Какое отношение имеет словоблудие буржуазных партий к этим обездоленным людям? Они радуются празднику, пропускают мимо ушей речи, гремящие с трибуны, – и правильно делают. Вчера в Кеймадасе замечалось какое-то возбуждение, но дело было вовсе не в манифестации, а в том, что все гадали: пришлет ли барон де Каньябрава своих молодцов и будет ли стрельба, как в прошлый раз? Уже полдень, но все тихо, значит, столкновения не будет. Автономисты, наверно, махнули рукой-республиканцы не нашли поддержки у местных жителей, а их собственные митинги, должно быть, как две капли воды похожи на сегодняшний. Нет, не на этих сборищах вершится судьба Баии, судьба Бразилии-она решается там, в Канудосе, и решают ее люди, даже не подозревающие о том, что они-то и есть подлинная политическая сила. Сколько же еще томиться здесь в ожидании?» Галль садится на топчан, шепчет «одолела скука-поможет наука», открывает валяющийся на полу саквояж, отодвигает в сторону рубашки и револьвер и, наконец, находит то, что искал, – записную книжку, в которую заносил свои впечатления о Кеймадасе, перелистывает ее страницы: «Кирпичные дома, черепичные крыши, неуклюжие, толстые колонны… Куда ни взглянешь-груды коры анжико, содранной при помощи молотка и ножа с деревьев. Потом ее бросят в заполненные речной водой чаны. Туда же положат невыделанные кожи-примерно на неделю: за этот срок они продубятся. Из коры анжико выделяется дубильное вещество. Потом кожи сушат под каким-нибудь навесом и дочиста отскабливают ножом. Это шкуры коров, баранов, коз, кроликов, оленей, лис и рысей. Кора анжико-пахучая, кроваво-красного цвета. В примитивных мастерских работают целыми семьями – отец, мать, дети и еще какие-нибудь родственники. Кожевенный промысел-главное богатство Кеймадаса». Галль засовывает книжку в карман. Кожевники были к нему доброжелательны, объясняли ему тонкости своего ремесла. Но почему, стоит только упомянуть Канудос, они тут же замолкают? Боятся разоткровенничаться с этим чужаком, который говорит на ломаном португальском? Ведь Галль знает, что Антонио Наставник и Канудос-основная тема всех разговоров в городке, но ему ни разу не удалось завести об этом беседу – ее не поддерживал никто, даже Руфино и Журема. Всюду-в мастерских, на станции, в пансионе, на городской площади – едва он произносил это имя, все замолкали, отделывались недомолвками, а на него устремляли недоверчивые взгляды. «Они благоразумны, – думает Галль, – они осторожны; они знают, что делают. Они мудры».
Он снова шарит в саквояже, достает свою единственную книгу-старую, зачитанную, в темном переплете, на котором едва можно разглядеть имя Пьера Жозефа Прудона. Но заглавие-«Systeme des contradictions»[16]– и место издания – Лион – видны отчетливо. Шум на улице не дает ему углубиться в чтение, к тому же им снова исподволь овладевает нетерпеливое ожидание. Сделав над собой усилие, сжав зубы, он принимается размышлять. У человека, которого нисколько не интересуют проблемы и идеи общего порядка, который живет затворником, превыше всего ставя свою обособленность, должны быть за ушами резко обозначенные, выпирающие парные кости. Есть ли они у Руфино? Быть может, готовность принять сверхъестественное у человека, который поведет его в Канудос, проявляется в своеобразном понимании чести, того, что можно назвать этической разновидностью воображения?
Чаще всего и охотней всего вспоминал он не мать, которая бросила его в младенчестве, увязавшись за сержантом Национальной гвардии, в погоне за бандитами проезжавшим со своим отрядом через Кустодию; не отца, которого никогда не знал; не дядю с теткой– Зе Фаустино и дону Анжелу, – которые взяли его к себе, вырастили и воспитали; не три десятка домов на немощеных улочках Кустодии, – самыми первыми, самыми светлыми и радостными были его воспоминания о бродячих певцах. Время от времени по пути в какое-нибудь имение или на праздник в честь местного святого они появлялись в деревне, чтобы повеселить гостей на свадьбе, и за рюмку кашасы, за ломоть копченого мяса с фарофой[17] рассказывали истории об Оливье, о принцессе Магалоне, о Карле Великом и двенадцати пэрах Франции. Жоан слушал певцов, стараясь не пропустить ни звука, и губы его шевелились, повторяя за ними слова баллад. Потом, ночью, ему снились удивительные сны, в них звенели копья доблестных рыцарей, бившихся с полчищами язычников за гроб господень.