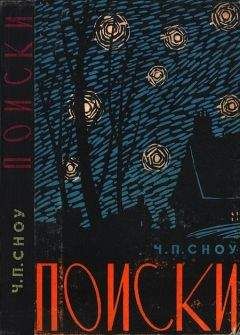Я задумался на мгновение.
— Прежде всего потому, что я не так уж страстно озабочен практическим благополучием человечества. Мне оно не кажется самым важным. А если бы я был озабочен, то я вообще не занимался бы наукой — у меня нашлась бы куча гораздо более срочных дел. Если хочешь помочь человечеству сейчас, немедленно, гораздо полезнее заниматься политикой или экономикой, а не естественными науками, — что толку спасать нас от туберкулеза, если мы все обречены умереть с голоду, потому что наша система разваливается, или погибнуть на войне, потому что политические деятели опять совершили ошибку.
— Вот как, — сказала она и отпила несколько глотков чая. Мой ответ ее, видимо, не удовлетворил. — Вы хотите иметь дело с чистой наукой?
— Да.
— Это очень… абстрактно. А вы человек вполне реальный.
Почему-то мне это ужасно понравилось.
— Вы так думаете?
— Конечно.
— Послушайте, — сказал я, — мы все время говорим о моей работе, о моих взглядах и о моем характере. Давайте поговорим о вас. Чем вы занимаетесь?
— Предполагается, что я изучаю историю, — сказала она. И вдруг с неожиданной страстью добавила: — Это должно было бы интересовать меня! Но не интересует! И она мне до смерти надоела. Мне хочется заняться чем-нибудь серьезным.
— Это так важно?
Я почувствовал вспыхнувшее в ней раздражение еще до того, как она ответила. Ее глаза сверкнули.
— Конечно, важно. Неужели вы так же глупы, как все остальные? Вы что же думаете, у девушки моего возраста интересы не поднимаются выше бюста? Я же не слабоумная.
— Простите меня, — я понял, что обидел ее, и рассердился на себя. — Мне следовало бы раньше подумать.
— Мне тоже, — неожиданно рассмеялась она. — Вы ударили меня по больному месту. Понимаете, вы сказали, что это не имеет значения, а я думаю, что большинство женщин моего типа всегда немного побаиваются, что это действительно в конце концов не так уж важно. Я знаю, что и я этого боюсь. И когда я вижу, как вы абсолютно твердо убеждены, что делаете именно то, что нужно, я невольно задумываюсь, существует ли для меня такое же необходимое дело. У меня нет никакого призвания. Я сомневаюсь, обнаружится ли во мне какое-нибудь призвание. Не считая призвания выйти замуж. Я не знаю, есть ли такое дело, которым я могу целиком занять себя.
— Вы очень мрачно смотрите на жизнь, — сказал я, — конечно, такое дело есть.
— Пока что я его не нашла.
— Но вы найдете.
— Не знаю, — улыбнулась она. — Во всяком случае, мне было приятно выложить все это вам.
— Мне это еще более приятно.
— Я этого не думаю, — сказала она. — А мы проверим. Как мы сейчас — уйдем отсюда смотреть ваш матч или останемся и будем разговаривать?
— Мы останемся здесь, — сказал я.
Когда мы в конце концов ушли, косые солнечные лучи мягко освещали поле, кое-где уже лежали длинные тени и двое нападающих команды моего графства доигрывали последние пятнадцать минут матча.
3
Целую неделю я не видел Одри и не разговаривал с ней. Я мог позвонить ей по телефону и знал, что она будет рада встретиться со мной. Мне ужасно хотелось увидеть ее. Я мог подстроить дело так, как будто мы встретились случайно. И тем не менее я отказался от свободных дней, проводил все время в лаборатории, слишком усталый для того, чтобы работать, и часто, помимо своего желания, думал о ней.
Я влюбился в нее, и меня это бесило.
До сих пор ни одна человеческая личность не имела для меня большего значения, чем я сам. И вот явилась Одри. Мои родители, когда я был ребенком, друзья в годы моей юности никогда не занимали в моей жизни очень много места — я начал понимать это только сейчас. Они всегда были достаточно мне близки, чтобы их судьба меня волновала, но они никогда не проникали так глубоко в мое сердце, как Одри. Я не мог не признаться в этом самому себе, сидя в лаборатории, и я — не могу подобрать другого слова — дулся на себя.
«Наверное, я ужасный эгоист, — думал я. — До сих пор ни один человек не имел для меня большого значения. Это факт. Единственное, что волновало меня, это моя работа. Неужели эта девушка вторгнется и сюда?»
Я дошел до того, что чуть не плакал от жалости к самому себе. Я уверял себя, что не хочу с ней встречаться потому, что она встанет между мной и моим призванием. Я говорил себе, что посвятил свою жизнь моей работе, я шел один и налегке, а теперь она придет и встанет мне поперек дороги. Я был самодоволен, абсолютно серьезен и старательно взвинчивал себя. Помню, как через три или четыре дня после нашей встречи я несколько часов бродил в бледно-голубых сумерках, теплым, ярко освещенным лондонским вечером, спрашивая себя: «Смогу ли я избавиться от этого? Неужели я настолько слаб, что не могу совладать с собой?»
Трудно сказать, насколько мое притворство обманывало меня самого. Вероятно, я только отчасти вводил себя в заблуждение. Ибо ведь, конечно, позы и слова служили только прикрытием для страха, который испытывает каждый из нас, когда мы сознаем, что вскоре нам грозит опасность оказаться в жалком положении зависимости от другого человека. К этому страху присоединялась нервозность юноши, понимающего, что пришло время, когда он должен проявить себя как мужчина.
Ни одна женщина не была никогда для меня больше, чем незнакомкой, с которой можно потанцевать, тенью в освещенном окне или актрисой, блистающей на сцене. Я всегда избегал углубляться в эту область, о которой любил поговорить Шерифф. Я до сих пор не знаю, как складывалась эта сторона его жизни, точно так же я в течение многих лет не знал правды, скрывавшейся за молчанием Ханта. Случалось, правда, что, гуляя в одиночестве и заслышав вдруг доносившуюся издалека танцевальную музыку, я ощущал смутную тоску по чему-то мне неизвестному; вид обнимающихся влюбленных, выражение их лиц порой лишали меня покоя. Но я жил трудной и полной забот жизнью, и я поздно повзрослел. Я все еще был мальчиком, когда я встретил Одри.
Очень скоро проблема была решена. Возможно, я сам пытался создать проблему там, где ее не должно было быть. Я уже не мог думать ни о чем другом, кроме как о ее непринужденности, о ее манере двигаться и смеяться, о ее искренности и непосредственности. Я заранее приходил в дурное расположение духа, представляя себе все трудности, которые меня ждут, убеждал себя, что от этого пострадает моя работа, и тем не менее все мысли мои были только о ней: я гадал, понравился ли я ей, и придумывал, как мы могли бы устроить нашу жизнь. Она снилась мне по ночам, но никогда — в качестве любовницы; только много позже она стала играть в моих снах эту роль.
Через неделю после нашей встречи я сдался. Все еще недовольный, все еще возмущаясь своей слабостью, но полный ликования, которого я не мог скрыть от себя самого, я решил попросить ее о встрече. Подходя к телефону, я слышал, как бьется мое сердце. Я почти хотел, чтобы ее не оказалось дома. Я ждал, когда она подойдет, и моя рука, державшая трубку, подрагивала в такт биению моего сердца.
— Вы могли бы сегодня встретиться со мной? — спросил я.
— Я ждала, когда вы пригласите меня, — ответила она.
4
Она пришла ко мне на чашку чая. Я думаю, это свидетельствует о том, насколько мне с ней было легко уже тогда; я ведь помню, меня отнюдь не огорчало, что моя хозяйка может подать нам только магазинный фруктовый пирог и толстые ломти поджаренного хлеба. Будь на ее месте любая другая молодая женщина, я бы смущался., но с Одри все это не имело никакого значения.
— Я рад, что вы пришли, — сказал я.
— И я рада, что пришла, — ответила Одри.
Она оглядела мою не очень опрятную комнату. Напротив окна висела олеография с изображением шотландского быка, а под ним всю стену занимало старое пианино моей хозяйки, играть на котором я не умел. Мои книги грудами лежали на немногих оставшихся целыми креслах.
— Так вот, значит, как вы живете, — улыбнулась она, — я часто пыталась себе представить вашу комнату.
— Она не слишком хороша, — заметил я.
— Да, она не очень хороша, а в общем вполне подходяща, — сказала Одри. Она сняла шляпку, и ее волосы свободно рассыпалась по плечам.
— Если бы моя комната была роскошной, вы бы отнеслись к ней точно так же. Правда ведь?
— Наверно.
Она рассмеялась.
— Вы знаете, она у вас такая потому, что у вас есть цель жизни. Если бы ее не было, то вы были бы вроде меня и тратили бы целое утро, придумывая, какие купить обои.
— Вам, наверно, надоело все, Одри, — сказал я. Мне было очень приятно произнести ее имя.
— До слез. Больше, чем до слез, — ответила она, и уголки ее губ приподнялись в улыбке. — У меня есть моя несчастная история. И я, кстати сказать, преуспеваю, мне только что дали премию. Но, понимаете, Артур, это ужасно глупо — когда подлинных людей превращают в марионеток глупые маленькие историки, которые никогда в своей жизни не видели подлинных людей.