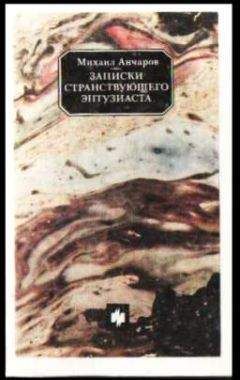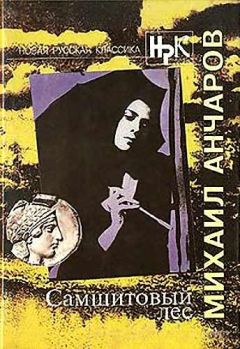Зачем ему эта хреновая верность, он и сам не знает, но он видит, что без нее он несчастлив.
Речь, конечно, идет о нормальном человеке, а не о жреце.
Жрец, это тот, кто жрет. Это не острота, как думают многие, а буквальный смысл. И «жертва» это «жратва». Справьтесь в этимологическом словаре. Все остальное — метафоры.
И человек видит, что жрец жрет его верность и его самого, и не хочет быть жратвой. Но и жрецом быть не может, так как ему стыдно есть незаработанный хлеб или людей. Что есть стыд?
- Может быть, совесть? — спросили одного рабочего древней закалки.
- Нет, — сказал он. — Совесть — это уже сознательное… А стыд есть рвотное движение души.
Стыд есть рвотное движение души. Есть вещи, которых нельзя делать. Речь, конечно, идет о работнике в любой области. Потому что все остальные — ублюдки. Сэр, я так и не выяснил, откуда берутся ублюдки. Они бывают всех мастей — от извергов до обсосков. Может быть, это генетические уроды, а может быть, ими становятся сознательно, а может быть, это древний род живых существ. Ведь и у растений каждый новый выведенный сорт родит новую расу паразитов. Это открытие сделал великий академик Вавилов.
Недавно показывали по телевизору вампиров. В кадре — ночь. Стоит привязанный к изгороди латиноамериканский осел, и к двум его задним ногам, сложив крылья, медленными, копошащимися толчками подбираются два небольших вампира. Молниеносный надрез-укус, и кровь течет, не сворачиваясь, и совсем — совсем не больно, и можно слизывать.
Самое страшное и отвратительное — оказалось, что у них добродушные мордашки.
А потом показали лицо саранчи крупным планом. Жвалы ее двигались, она непрестанно жрала, а передние лапки ее делали молитвенные движения.
Господи, сколько же гадов на земле.
Но дети родились в условиях, которые сложились до них.
В январе, где-то на Диком Западе, появилась молодежная мода на рубахи с надписями: «Убивай и правых и виноватых. Господь потом их рассортирует».
Этим засранцам кажется, что эта мысль пришла в голову кому-то «из своих». Увы. Они ошибаются. Эта фраза принадлежит средневековому аббату Мило, папскому легату, который вел войско против мятежного города альбигойцев. Это он изобрел чудовищный лозунг: «Не бойтесь, режьте всех. И католиков и еретиков. Господь отличит своих от чужих».
Интересно, что господь бог все же праведников выделял — и Ноя спас во всемирном потопе, и Лота, когда казнил Содом и Гоморру. А церковь и господа бога отредактировала. Интересно, какие распоряжения она отдает сейчас, когда Великая Американская Мечта потихоньку превращается в шизофренический крестовый поход, а Белый дом в Желтый.
Что это? Куда ушло наше восхищение Америкой? А мы многим восхищались. Мы восхищались джазом, даже тогда, когда какой-то тронутый пустил пулю, что «от саксофона до измены родине один шаг». Но это была другая Америка, а джазы играют теперь по Центральному телевидению. Мы восхищались Америкой, когда на вопрос анкеты: «что вам нравится в американских фильмах?» — великий режиссер мог ответить: «их доброта». Но это была другая Америка, и шли фильмы «Седьмое небо» и «Судьба солдата». Это, конечно, была та же Америка, но все же тогда обезумевший старик не имел возможности нажать превентивную кнопку.
А чем восхищаться теперь? Тем, что в их универсамах, по слухам, двести сортов колбасы? Но ведь на это как раз и ушло двести лет. И вся мечта? Мы об Америке думаем лучше. Поезд подошел к Рязани.
И мы, как выяснилось за это время, литераторы самых различных школ и направлений, с ба-а-альшой уверенностью трижды и негромко сказали — ура… ура… ура… за то, что Есенин братьев своих меньших никогда не бил по голове. Такая колбаса.
Самые последние известия: Есенин родился на Рязанщине. Хотелось сообщить эту новость лучшей девочке Америки — Саманте. Но она не выжила среди двухсот сортов колбасы и теперь уже не станет президентом. А то мы избрали бы ее. Такая колбаса, сэр.
21Дорогой дядя!
Мы были такие разные в этом купе, куда постепенно втискивалась вся делегация. Я же их никого не знаю — ни в лицо, ни по фамилии — так я тогда был уверен. Первым стремительно появился светловолосый, с крепкими скулами, дерзко сощуренными глазами и такой же улыбкой. Сел рядом со мной и запел: «Кони сытые бьют копытами». И мы все подхватили. А чего ж нам не подхватить? У каждого из нас насчет этой песни своя горечь и свой вызов.
Я кончил Художественный институт через год после того, как Сталин умер, стало быть, более тридцати лет тому назад. И я был на площади в день его похорон. Венки, венки, прикрытые снегом. Тогда вдруг снег пошел. И я увидел неподвижные фигуры и внутреннюю жизнь людей, стоявших молча у венков в снегу. И я увидел групповой портрет эпохи. Я, конечно, взял это видение на диплом и принес эскиз. У меня его сразу же зарубили. Впервые тогда все услышали что-то о культе личности.
Тогда я взял на диплом про то, как Ломоносов с обозом идет с севера в столицу. И принес эскиз, который мне тоже зарубили по той же причине.
- Культ, говорят, личности.
Тут я впервые почувствовал неладное.
Ломоносов, его личность, меня лично устраивали во всем, даже его личный способ выражаться — что естественно. Так как он один из тех, кто создавал язык. Он сказал, когда Венера проходила мимо Солнца: «На краю Солнца появился пупырь». Я лично от этого пупыря хохотал до слез. Теперь бы нашли какой-нибудь термин из древнего или зарубежно-престижного языка, который в переводе все равно бы означал древний или престижный пупырь.
И я хохотал, представляя себе, как члены жреческого сословия поеживались от этого «пупыря» и почесывали свои латино-терминологические глютеусы. Нельзя же, в самом деле, чтобы гоф-кригс-приват-адъюнкт-профессор почесывал себе задницу! А глютеус — это звучит.
Я честно ездил в запланированные поездки и собирал этнографические этюды для одежды и обоза, у меня и сейчас валяются рисунки розвальней и кокошников. Но и этот эскиз зарезали.
- Культ, говорят, личности.
А у меня лично и был культ этой личности, и я лично не понимал, почему я на это не имею права. И я был в растерянности.
Я, видно, чего-то не понимал. Начиналась буря политических страстей и жуткая информация, которую не отбросишь и глаза на нее не закроешь, и надо было уцелеть душой, потому что «мы работники всемирной», а «паразиты — никогда», и это не отменяется, потому что если это отменить, то пропадет последняя надежда человечеству уцелеть, и дети, которые родятся в условиях, которые сложились до них, будут звереть от страха, а страх перед воображаемой опасностью — это и есть то зло, с которого начинается реальное злодейство. Но разбираться во всем этом было все трудней, так как из отрицания образовывалась профессия. И вот уже нехорош Ломоносов. Ломоносов! Тогда я подумал — может быть, они потому не хотят его, потому что он все-таки начальство и президент всех академиков, и это где-то в каких-то кругах раздражает и выглядит, ну не знаю, как сказать, не демократично, что ли! Ладно, думаю. Обращусь к такой фигуре, которую по всем вычислениям параметрологов и определителей ни к какому культу не отнесешь.
Был у меня такой человечек, от личности которого и от его судьбы душа сжималась — Икар. Но не мифический, а реальный, исторический, летописный, тот самый холоп, который прыгнул на созданных им самим крыльях и упал, и был смят временем и испугом жрецов, и крылья его были сожжены под формулу — «человек — не птица, крыльев не имать». Тут, думаю, никто ничего сказать не сможет. Сказали.
Не сразу, правда, но сказали. Видно, долго аргументы подбирали, потому что сказали уже дома, когда я институт закончил, и кому-то остро не понравилось, что вот он сейчас полетит, потому что он личность.
То есть я вдруг понял, что где-то созрела достаточная злоба не на культ, а на личность.
А я в то время уже понял, что личность — это кто нашел свое место в жизни и занимает свое место в жизни, а не чужое. И это первый признак личности, а может быть, выяснится, что он главный. И тогда он занимает свое место, как нота на своей строке. И тогда он может быть кем угодно — и вождем, и ученым, и токарем — кто к чему предназначен своей природой и условиями, которые хотя и создались до его рождения, но для которых он годится лучше всего. И если он об этом догадался, то он все равно — крылоносец. И не бескрылому об этом судить и насмехаться.
А светловолосый, поблескивая рысьими глазами, рассказывал неизвестные мне истории из жизни военных вождей отошедшей войны и рассказывал так хорошо, что я только рот разевал, и было понятно, почему они в отошедшую войну были на своем месте. И я восхищался его восхищением и думал, что моя натура для него — мягкотелый и слюнтяй. И я захохотал от такого предположения, потому что очень многие думают, что мужественный — это который лязгает. И в этом их давнишняя ошибка. И роковая.