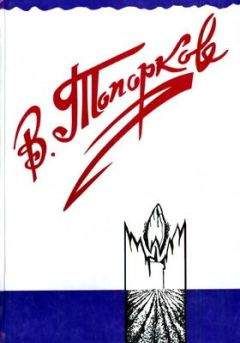Дунаев снова хохотнул, оживлённо вскочил со стула, поглядывая на смеющегося Боброва:
– Ну как, брат, логику понял? Вот такая жизнь, как в сказке, ни прибавить, ни убавить. Так что ты к Белову критически приглядывайся, он – как месяц на исходе, немного ущерблённый.
Краснота на ковре исчезла, холодным мутным светом затянулось окно. Егор свет включил и уже серьёзно сказал:
– Вещи твои я шофёру поручил на квартиру отправить. Там всё готово. Правда, Лариса, когда я домой заезжал, нас с тобой вместе ждёт.
– Нет, нет, – торопливо ответил Бобров, – мне надо в новой квартире обживаться.
При упоминании о Ларисе стало как-то неприятно на душе, точно промозглой сыростью обдало. Бывает такое ощущение, когда выбираешься из обжитого, нагретого дома на продутую январским сиверком улицу, так и хочется назад в дом, к теплу, вернуться. Бобров даже плечами передёрнул.
– Ну ладно, – махнул рукой Дунаев, – тогда давай прощаться… Да, чуть не забыл – сторожиху эту ты гони, она как рыба-прилипала, прости, Господи, – и Егор крепко пожал руку.
Бобров до нового посёлка добрался минут за пять и это обстоятельство отметил для себя как приятное. Не нужно много времени тратить на дорогу.
На улице посвежело. Тяжело, со скрипом оседал схваченный лёгким морозцем снег. От окон ложился мягкий свет на тропинки к домам, искрился в лужах. Улица была тихая, ни людей, ни собак, и только недалеко от своего дома увидел Бобров неподвижную тень.
Приблизившись вплотную, различил Бобров в сгорбленной фигуре, накрытой шалью, старуху. Она точно встрепенулась от хруста снега, из-под шали протянула руку с ключами.
– Никак новый агроном?
– Он самый, – усмехнулся Евгений Иванович.
Старуха пошла следом, тяжело дыша, проваливаясь в шуршащий снег, на ходу рассказывая:
– А мне Егор Васильевич строго-настрого приказал: «Дождись, Степанида Егоровна, жильца нового, непременно дождись». А мне чего делать-то, занятий у меня никаких нету, вот я и на улицу выбралась, дышу не надышусь. И слава Богу. Посёлок-то наш рано затихает, люди рабочие, устали небось за день, приморились на тракторах да при скотине…
Сторожиха говорила распевно, как вела партию в хоре, голос её был чистым, ровным, и Евгений Иванович даже удивился: плохо вязался этот по-молодому звучный родниковый голос с жалкой сухой фигурой.
Бобров поднялся на крыльцо, долго пытался открыть дверь, но в темноте не удавалось вставить ключ в прорезь. Степанида Егоровна пришла на помощь, шаль с головы на плечи сбросила, засмеялась, и смех показался Боброву серебристым, вроде в бубенцы какие-то ударил ветерок, хоть и слышалась в этом смешке: лёгкая печаль.
– Видать, с непривычки, – сказала старуха. – У меня ловко получится.
Она быстро щёлкнула ключом, открыла дверь, зажгла свет на веранде и первой вошла в дом и опять засмеялась:
– Это я, милый, над собой засмеялась, – сказала она уже в прихожей. – Ведь обычай такой: в дом новый входить – вперёд кошку пусти. А у тебя я вроде кошки. Старая, умру скоро всё равно…
Евгений Иванович сбросил пальто, шапку, предложил раздеться Степаниде Егоровне. Откровенно говоря, не хотелось ему сейчас оставаться в этом просторном, гулком, без мебели, доме, а сторожиха, видать, словоохотливая, но она замахала руками:
– Э, нет, милый, я только раскладушку свою заберу и подамся…
– Какую раскладушку. Вон на кухне стоит. Квартировала я здесь, пока дом пустой стоял, присматривала от худых рук…
– А теперь куда же?
– Да тут ещё одна квартира есть пустая, там и буду обретаться…
Что-то непонятное говорила старуха, и Евгений Иванович на неё посмотрел внимательно. Теперь при свете рассмотрел он лицо, сухое, морщинистое, с высоким седым зачёсом волос, нос тонкий, в матовых пупырышках, сухие обветренные, потрескавшиеся губы, острый подбородок. Неподвижное лицо это показалось ему знакомым, и вдруг память точно толчком ударила в голову. Да ведь это же Степанида Грошева, соседка, как же он не узнал её сразу…
Бабка Степанида складывала раскладушку на кухне, силёнки у неё, видать, мало осталось, работа эта немудрёная давалась с большим трудом.
– Тётя Стеша, – окликнул её Бобров, – ты подожди, я помогу…
Старуха подняла на свет бледное, измученное лицо, с удивлением посмотрела на Евгения Ивановича:
– Никак Женька Бобров? – спросила она тихо, неуверенно.
– Я, я, тётя Стеша!
Старуха опустилась на раскладушку, и увидел Бобров – поползли по впалым бледным щекам две засеребрившиеся слезинки, а руки, усталые, жилистые, затряслись мелкой дрожью.
Стукнула боль в виски при виде этого, и сердце кто-то взял грубой шершавой рукой, сдавил и не отпускает, держит цепко.
Степанида первой пришла в себя, опять за раскладушку принялась, заторопилась.
– Я тебе, Женя, мешать не буду… Уйду сейчас… Ты уж отдыхай, отдыхай, поди, намаялся за день…
– Извините, тётя Стеша. Успеется. Вы со мной побудьте, про жизнь расскажите, ведь столько лет не виделись…
– Да что про неё, про жизнь рассказывать, – тётка Стеша опять к раскладушке наклонилась и наконец сложила её с трудом, вздохнула облегчённо и, повернувшись лицом к Боброву, сказала запыхавшимся голосом: – Моя жизнь, Женя, кончилась… Как Сашу моего забрали супостаты, так и жизнь кончилась.
Старческим рыхлым шагом засеменила тётка Степанида с раскладушкой, но у двери обернулась, уже спокойно сказала:
– Не забудь на ночь форточку закрыть. К утру всё высвистит – замёрзнешь…
Тётка Степанида скрылась за дверью, на веранде стихли её шаги, а Бобров всё ещё не мог прийти в себя от этой неожиданной встречи. Видно, не дано человеку, если он человек, а не скотина какая-нибудь, отвыкнуть от жалости, забыть горечь обид, щемящую тоску о тех людях, кого он знал и любил.
Евгений Иванович прошёл в комнату, уселся на кровать, и то забытое, угасшее, как закатное солнце, вдруг ожило в сердце, опять сжало его до хруста. Эта давнишняя история тогда даже ему, четырёхлетнему, запомнилась, а подробности потом рассказала мать…
…У солдатской вдовы Степаниды Сашка был единственным сыном. Может быть, потому был он сорвиголова, отчаянный и смелый, весельчак и балагур. После войны, окончив семилетку, ушёл Сашка в МТС, где сначала слесарил в мастерской, а потом подался в трактористы. На разбитом чёрном, как жук, колёсном ХТЗ ворочал он запущенные за военное время, заросшие пыреем и белёсым ковылём поля и летом дома бывал редко.
Но когда появлялся Сашка Грошев дома, у Степаниды был праздник. Сын сбрасывал грязный до блеска комбинезон, облачался в старую отцовскую кремовую рубашку, шерстяные клёши, купленные на рынке, белые парусиновые полуботинки, и тогда все видели, какой Сашка красивый. Был он высокого роста, светлые волосы кудрявились на голове, как молодая листва на раките.
Сашка извлекал свою балалайку, усаживался на порог и «точал» частушки. Одни из них и сейчас помнит Бобров:
Сербиянка, сербиянка,
Сербиянка модная.
Бери ложку, ешь картошку,
Не сиди голодная!
Сашка веселился, а рядом с ним, закончив стирку грязной робы, усаживалась мать и глаз не сводила с сына. Трудно предположить, о чём думала Степанида в эти минуты, но наверняка, о чём-то радостном и светлом – на лице её не таяла улыбка. Сашка любил мать, из бригады приносил ей краюху хлеба, а когда удавалось, и немного пшена, выписанного в колхозах, что по тем временам было большим богатством – ведь в деревнях ещё пухли люди с голодухи.
Наверное, Степанида была бы счастливой бабкой. Сашка собрался осенью жениться на Дуське Бирюковой, боевой, как и он, девке, Дуська нравилась и Степаниде, они часто теперь сидели на порожках вместе. Дуська припевала под балалайку, а Степанида улыбалась, покачивая головой.
А у начала Сашкиной трагедии стоял механик Михаил Кузьмин. Тогда он был тоже молодой, чуть старше Сашки, но уже известный пьяница и забулдыга. Три года Кузьмин отслужил в армии, домой вернулся с двумя медалями, хотя мужики, когда заходила речь о Мишкиной службе, посмеивались: «Как же, держи карман шире, будет Мишка Кузьмин воевать. Он все эти годы арестантов охранял на Севере».
Видимо, на Севере пристрастился Мишка к водке, точнее, к спирту, которого, по его рассказам, было там «видимо-невидимо», хоть пей, хоть лей, хоть купайся в нём». Став механиком в МТС, – по блату получил эту должность от своего дяди-директора, – Мишка пристрастия к водке не бросил. Наоборот, колеся на «коломбине» – так он звал походную мастерскую, старый разбитый «газик» – по колхозам, Кузьмин умел обложить «оброком» и колхозных председателей, и самих трактористов. Сашка не мог простить ему, например, как в ивановском колхозе, где председателем была боевая, но абсолютно безграмотная Христя Никифорова, он «ломал комедь».