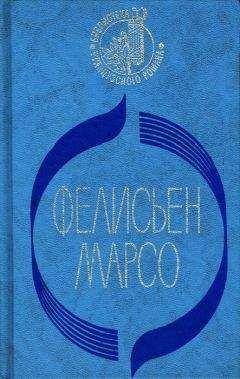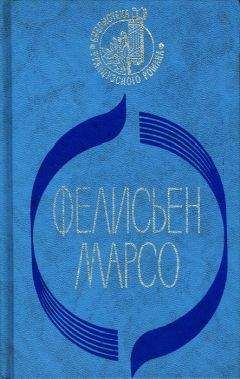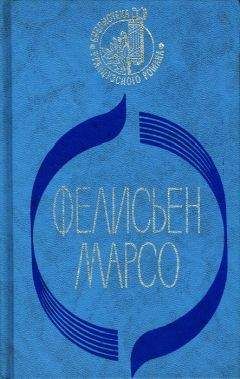— Шесть, семь, восемь…
— Что-нибудь не так, мадемуазель Пук?
Это я так говорил. Из другого темного угла.
— Что?
Я угадывал над светлым пятном от лампы ее беспокойный взгляд. Беспокойный пока еще не из-за кассы, а просто по обыкновению.
— Что?
— Я спрашиваю: что-нибудь не так, мадемуазель Пук?
— Оставьте меня в покое, я занимаюсь подсчетами.
Подсчетами? Она занималась ОДНИМ подсчетом. Зачем надо говорить: подсчеты? Опять тщеславие. Ладно. Потом она прекратила свои движения. Мадемуазель Пук затихла. Был такой момент. Потом она произнесла:
— Эмиль.
— Что, мадемуазель Пук?
От облегчения я почти закричал. Я скажу почему: я торопился вмешаться в дело. Я хотел бы двигаться, суетиться, делать вид, что помогаю ей, этой мадемуазель Пук. Я поднимал бы реестры, смотрел бы на полу.
— Нет, ничего, — ответила она.
Постоянное отсутствие доверия. Это так печально. Вместо того чтобы рассказать, она предпочла искать одна в своем гроте темноты, вокруг светового пятна, что — то бормоча. В какой-то момент, чтобы посмотреть под столом, она наклонила голову, и на нее упал свет. За какие-нибудь пятнадцать минут она изменилась. Невероятно изменилась. Ее валик растрепался, и на лоб теперь свисала прядь волос. Она стала походить на одну из матерей с улицы Боррего.
Потом она внезапно закрыла свой ящик, решительной походкой пересекла магазин и постучала в дверь господина Дюфике. Я увидел освещенное желтым светом длинное лицо господина Дюфике, который сидел за письменным столом. Дверь закрылась, потом снова открылась. Господин Дюфике вошел в комнату с видом человека, которого тревожат по пустякам.
— Ну ладно, — говорил он, — не волнуйтесь, мадемуазель. Может быть, вы ошиблись.
— Месье, — сказала она. — Месье Дюфике.
Конфиденциальным голосом:
— Что?
— Молодой человек…
Это я, молодой человек. Ей, конечно, было бы неприятно говорить о случившемся в моем присутствии. Это задевало ее достоинство.
— Ну и что? Он же свой, молодой человек. Кстати, он нам поможет. Правда же, Эмиль?
— Конечно, господин Дюфике. А в чем дело?
— Мадемуазель Пук не может найти пятьсот франков.
Тут, я вам скажу, у меня екнуло в груди. Пятьсот франков? Как это могло получиться? Я в своем углу подсчитал, что недостача должна была бы составить шестьсот двадцать пять франков. Пятьсот, которые взял я, и сто двадцать пять, которые она в качестве сдачи вернула клиенту. Это мне даже показалось довольно безнравственным. Я хотел украсть только пятьсот франков. А недостача составила шестьсот двадцать пять франков. Разве это справедливо? Но в тот момент я был поражен. Пятьсот? Как он узнал, Дюфике?
В какой-то момент я подумал, что это была ловушка и что мадемуазель Пук раскусила меня. Но она, казалось, и не думала об этом. Ни он, ни она. Господин Дюфике считал купюры.
— Да, получается, что действительно так, — сказал он.
Мадемуазель Пук, уже не в силах держать себя в руках, заплакала.
— Я клянусь вам, господин Дюфике…
— Да я верю, мадемуазель. Это ошибка, вот и все. Такое случается. Или клиент оказался нечестным. Но я ни на мгновение не подумал подозревать вас. НИ НА МГНОВЕНИЕ, МАДЕМУАЗЕЛЬ.
При его длинном прямоугольном лице способность выказывать свое уважение возвышала его как мужчину.
— Ни на мгновение. Нет, нет. Что вы. Столько лет уже в нашей фирме. Из всех наших сотрудников вы, наверное, больше всех у нас проработали.
— Если не считать старого Жюля, — поправила она между двумя всхлипываниями.
— Да, если не считать Жюля.
Здесь возникла пауза. Мы смотрели друг на друга, господин Дюфике и я. Как бы спрашивая друг друга, о чем еще говорить.
— Послушайте, — сказал Дюфике.
Он заколебался.
— Послушайте, эти пятьсот франков, ладно, мне хочется что-нибудь сделать. Вы мне отдадите только половину из них, мадемуазель. Да, половину. И когда сможете. Не расстраивайтесь из-за этого. Отдайте в конце месяца, например.
Было уже 22-е число.
И было уже шесть часов вечера. В коридоре, который тянулся вдоль магазина, слышались шаги и голоса расходившихся по домам работников мастерских. Прошел старый Жюль мимо двух витрин. Потом Троншар и План. Господин Дюфике вернулся к себе в кабинет.
— Ну что, закрываем, мадемуазель Пук?
— Я хочу еще поискать, — сказала она.
Ладно. И я ушел.
На следующий день я вновь увидел ее за кассой. У нее был плохой вид, усталые глаза, и она молчала. Ей, скорее всего, больше не хотелось говорить об этих пятистах франках. Но зато МНЕ ТЕПЕРЬ ХОТЕЛОСЬ О НИХ ГОВОРИТЬ. Странно, но меня тянуло к этому. Как тех, кто, только что потеряв невинность, без устали говорят об этом, сообщают подробности, могли бы рассказывать об этом даже незнакомым людям в автобусе. А мне хотелось поговорить об этих пятистах франках. Это еще раз подтверждает то, о чем я уже говорил: по — настоящему я потерял свою невинность на этой упаковочной бумаге. А вот про комнату на улице Жермен — Пилон у меня никогда не было желания рассказывать. Тогда как об эпизоде с упаковочной бумагой мне хотелось говорить, говорить… Хотелось еще раз пережить его. Я собрался опять стать перед столом, опять толкнуть лист бумаги…
— Ну так что, мадемуазель Пук, вы нашли эти пятьсот франков?
Героиня этого события снова в слезы.
— Эмиль, — произнесла она.
А я продолжал рассуждать:
— Это будет несправедливо, если вам придется вернуть деньги. Даже половину. Это, конечно, клиент взял. Разве вы виноваты, что бывают нечестные клиенты.
— Я несу ответственность.
— Нужно было бы собрать деньги со всех.
Я был в мастерских и говорил об этом с приятелями.
— Что? — возразили они мне. — Тебе что, это очень надо? Ты что, переспать с ней хочешь?
Надо сказать, мадемуазель Пук у нас не любили. Слишком гордая. И всегда такой вид, будто она работает больше других Это сильно раздражает. Иногда господин Дюфике посылал ее в мастерские. «Мадемуазель, сходите к Троншару и скажите ему, что…» Чаще всего по пустякам. Но она шла туда с важным видом, словно полномочная представительница Дюфике. Тип доверенного лица. Поэтому другие работники не жаловали ее. И в каком-то смысле их можно было понять. Одним из тех, кто ее на дух не выносил, был уже упоминавшийся старик Жюль, который занимался брошюрованием. Однажды, когда она ему передавала рекомендацию патрона и подняла, как обычно, шум, он ей высказал:
— О! Потише, потише, мадемуазель Пук, только не надо так пукать. — ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ. Мадемуазель Пук буквально задохнулась. Господину Дюфике пришлось рассердиться:
— Жюль, я вам запрещаю отныне…
Но простодушный Жюль, у которого было невозмутимое лицо старого толстого китайца, в ответ протянул:
— Но я же не нарочно, господин Дюфике. Мадемуазель Пук, пукать, я никак не связывал, просто так случайно вышло.
— В самом деле!
У Дюфике тон иногда бывает очень саркастическим. Затем строго:
— Значит, не связывали. А нужно было бы связать, нужно думать, прежде чем говорить.
— Но, господин Дюфике, если ее зовут Пук, то что же, о некоторых вещах вообще нельзя говорить?
— Именно так.
— Это что же, и о плохом воздухе нельзя говорить?
— Я запрещаю вам говорить о плохом воздухе в присутствии мадемуазель Пук.
С тех пор всякий раз, как она входила в его мастерскую, старый Жюль начинал нюхать воздух.
— Смотрите-ка, — говорил он, — это все-таки странно.
Мадемуазель Пук могла бы сделать вид, что ничего не замечает. Но это было свыше ее сил.
— Что странно, господин Жюль?
— Ничего, мадемуазель… Пук.
Остальные посмеивались. А у себя за спиной мадемуазель Пук слышала: «Э! Не надо, мадемуазель Пук, не надо пукать». Она оборачивалась. Но все сидели, уткнувшись в свою работу.
Короче, моя идея собрать деньги большинству сотрудников не понравилась. Мне удалось набрать всего девяносто два франка. Из которых пятьдесят были мои. Мадемуазель Пук поблагодарила меня. Мы еще раз поговорили о деле.
— Вы помните, мадемуазель. Был клиент, который заплатил пятьсот франков. Тот тип, который купил реестры.
Почему я говорил ей об этом? Не знаю. Может, от радости — или от удивления, — от удивления, что у меня получился непроизвольный жест. Этот свободный жест. Который не соответствовал моей натуре. И к тому же меня беспокоила одна вещь.
— Реестров было на триста семьдесят пять франков. И вот тут я ничего не понимаю. Потому что, если клиент исчез со своим банкнотом, то при этом он ведь взял еще сто двадцать пять франков, которые вы должны были ему вернуть.
— Ну да, — отозвалась она с чувством.
— Тогда недостача должна была бы составлять шестьсот двадцать пять франков.
— Да, верно.
Она тоже ничего не понимала. Мы считали до бесконечности. Даже провели эксперимент. Она дала мне купюру в пятьсот франков. Я подошел. Протянул ей банкнот. Она дала мне сдачу — сто двадцать пять франков. Я забрал банкнот обратно. Ах! Клянусь вам, это меня возбуждало гораздо сильнее, чем то, что было у меня на улице Жермен-Пилон или с той провинциалкой на вокзале Сен-Лазар. Клянусь вам.