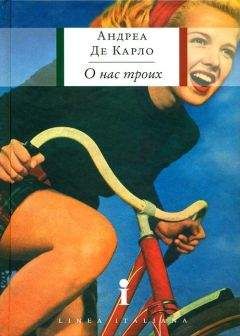Мизия сделала вид, что просыпается, потянулась и выбралась из-под камчатной гардины, потом встала, совершенно голая, и прошлась по гостиной с такой же, если не большей легкостью, чем раньше, когда сбросила одежду. Я смотрел на ее спину, ягодицы, красивые линии ног, и мне хотелось заорать, прервать сцену, побежать за ней и закутать в гардину, скрыть ее наготу от масляных взглядов Сеттимио Арки и его приятеля, помощника оператора, от беспощадного взгляда Марко, который с камерой в руках следовал за ней по пятам. Но я так и простоял со своей лампой на прищепке до конца эпизода; я смотрел, как Мизия подходит к моей троюродной сестре, берет свои вещи и одевается, неожиданно стыдливо, словно обнажилась только сейчас.
Потом она смеялась, и, если приглядеться, было заметно, что она покраснела и, похоже, сама удивлена своим поступком, но сразу становилось ясно, с каким упоением она поддавалась неведомой силе, уносившей ее под стрекотание пленки в камере, таинственной магии навечно запечатленных форм, движений, света.
Например:
На восьмой день мы снимали сцену, где Мизия забирается на подоконник и вылезает из окна на карниз. Марко хотел сначала установить камеру в комнате как можно ближе к полу, а потом, когда Мизия перегнется через подоконник, снять ее из соседнего окна. Затем мы должны были спуститься на первый и уже там, где падать некуда, отснять сцену с карнизом. Мы покончили с первыми кадрами и переместились к окну, снимать, как Мизия высовывается наружу. Но когда все было готово и Марко сказал: «Начали», Мизия влезла на подоконник и, не останавливаясь, спустилась на карниз пятого этажа.
Мы стояли вокруг Марко, высунувшегося с камерой из другого окна; остолбенев, не веря своим глазам, мы смотрели, как Мизия перелезает через подоконник и спускает свои длинные босые ноги на карниз. Я слышал, как Сеттимио Арки сказал вполголоса: «Твою ж мать», как Марко велел помощнику оператора: «Держи фокус». Потом все затаили дыхание: стояла гробовая тишина, пустая, как пустота, что была под нами.
Мизия двигалась боком, мелкими шажками, точно и плавно, как акробат, на высоте пяти этажей от заасфальтированного дворика, куда могла упасть в любой момент, стоило лишь неудачно поставить ногу. Я дотронулся до руки Марко, хотел сказать, чтобы он прекратил это, но он яростно отмахнулся левой рукой. Сеттимио оттащил меня за рубашку, бросил на меня безжалостный взгляд заговорщика. Марко не отрывался от видоискателя: он настолько погрузился в фильм и непрерывное состязание с Мизией, что, наверно, продолжал бы снимать, даже если бы она сорвалась и рухнула на асфальт.
Мизия сделала еще пять-шесть уверенных, точных шагов, лицом к стене, чтобы удобнее было снимать; потом наконец остановилась и вопросительно посмотрела на Марко. Он сказал: «Стоп», передал камеру помощнику оператора и снова пристально уставился на Мизию неожиданно встревоженным взглядом. Мизия вернулась обратно, далеко не так уверенно, как шла вначале; теперь она останавливалась через каждые несколько сантиметров. Сеттимио сказал ей: «Спокойно, спокойно», — но сам был настолько неспокоен, что мне пришлось ткнуть его как следует в бок, чтобы он замолчал. Мы все столпились у окна, из которого она вылезла: исступление превратилось в леденящий страх, глаза — в магниты, сбивчивые советы сыпались со всех сторон, так что невозможно было разобрать ни слова. Когда Мизия оказалась на расстоянии вытянутой руки, она сказала: «Мне кто-нибудь поможет?» — в ее глазах читался страх.
Я вцепился Марко в ремень брюк, он высунулся из окна, подхватил ее под мышки и втянул внутрь; от неожиданного рывка мы все трое повалились на пол. Мизия тут же вскочила и, босоногая, застыла перед нами спиной к окну, в полной тишине.
Меня распирала злость на Марко: как бы я хотел вцепиться ему в горло и душить до тех пор, пока не сойдет с его губ восхищенная улыбка, с которой он смотрел на Мизию.
Потом Сеттимио подошел к Мизии, хлопнул ее по плечу, сказал: «Ну ты даешь, камикадзе»; комнату заполнили крики, аплодисменты, смех, судорожные поздравления, новые подначки. Мизия улыбалась, бледная и хрупкая, как маленькая девочка, чудом избежавшая катастрофы.
Марко, как и Мизия, с головой ушел в фильм, менявшийся день ото дня, и почти потерял интерес ко всему остальному. Он стал похож на парусник, все быстрее несущийся под порывами ветра по морю воображения. Он без устали изобретал все новые ракурсы для Мизии: снимал ее, лежа с камерой на полу или стоя на верхней ступеньке лестницы, сидя в кресле на колесиках, которое во весь дух катил Сеттимио. Изобретал невероятные крупные планы, где в кадре был только один ее глаз или губы, кадры с ее затылком или лодыжками. Говорил с Мизией и опять брался за камеру, с яростным нетерпением переставлял лампы, пока не находил тот угол, какой видел мысленным взором; с нами, кучкой дилетантов, он обращался с какой-то трагической поспешностью, словно стоило нам на минуту отвлечься, и мы рисковали упустить не только смысл фильма, но и смысл жизни. Мизия смотрела на него, и в ее ясном, умном взгляде читалась готовность двинуться куда угодно еще до того, как он произнесет хоть слово.
Фильм все больше становился их личным делом, не доступным никому другому; я ощущал, как день ото дня все больше и больше выпадаю из его пульсирующего ритма. Когда все шло хорошо, я казался себе почти невидимкой, а когда возникали трудности — одной сплошной помехой. Я был пешкой в их судорожных импровизациях и спрашивал себя, не потерял ли их обоих; спрашивал себя, правильно ли сделал, познакомив их. Я ревновал, и сомневался, и метался, иногда вылезал со своими идеями, советами, соображениями и обнаруживал, что им до них нет никакого дела, иногда прислонялся к стене и отвечал: «Понятия не имею», когда они подходили ко мне и из вежливости спрашивали моего мнения. Возбуждение на съемочной площадке нарастало, и чувство, что я лишний, усиливалось во мне с каждым днем.
Марко был слишком занят, чтобы это заметить, но Мизия всегда обладала способностью улавливать оттенки эмоций даже в самых запутанных ситуациях: как-то вечером я провожал ее домой, мы, как обычно, говорили о фильме и обо всем, что случилось за день, и в какой-то момент она спросила: «Ты сегодня совсем скис, да?»
— С чего ты взяла? — я не собирался сдаваться так просто.
— Я видела, с каким лицом ты стоял, — сказала Мизия. — Спал на ходу. Витал где-то далеко.
Я хотел сказать, что она ошибается, но с ней меня всегда тянуло говорить правду, какой бы неприятной она ни была. Мизия так себя вела и так на меня смотрела, что ходить вокруг да около казалось немыслимым. Я сказал:
— Просто на самом деле это фильм ваш с Марко. Ну, может, еще и Сеттимио Арки, раз уж он так вошел в роль продюсера. Но мне тут особо делать нечего. Вообще нечего. Я по большей части подпираю стенку, как носильщик в ожидании поезда, и чувствую себя дурак дураком.
Мизия слушала очень внимательно, чуть наклонив голову и приоткрыв рот. Я надеялся, что она будет уверять меня в обратном, объяснять, как много я значу и что снять фильм без меня совершенно невозможно; но она ответила:
— Да, я знаю.
Я промолчал; ощущение своей ненужности обдало меня ледяным холодом, словно течение в северном море. В голове вихрем проносились картины в разных ракурсах: Марко и Мизия о чем-то увлеченно говорят в углу большой пустой гостиной, они стоят совсем близко друг к другу, они заодно, как влюбленные, для них не существует ничего, кроме их взглядов, неуловимых движений губ и рук, импульсов, понятных только им одним. Эти картины сводили меня с ума; я был готов отпустить руль, надавить на газ и разбиться в лепешку о первое попавшееся препятствие.
— Но ведь это коллективная работа, — сказала Мизия. — Ты являешься частью единого целого, и это приносит удовлетворение, разве нет?
— Не в этом случае, — сказал я. — Я ничего в вашем фильме не понимаю, целыми днями таскаюсь с лампой и подыхаю со скуки, пока вас с Марко уносят порывы вдохновения, а остальные таким странным образом развлекаются.
Мизия смотрела в окно на проносящиеся мимо вспышки фонарей. Она казалась девочкой-подростком, она была такая естественная, упрямая, жизнерадостная, что мне было страшно и невольно хотелось ее защитить.
— Меня от кино в сон клонит, — сказал я. — Последний раз я ходил в кинотеатр, когда мне было лет девять-десять, мы с тетушкой смотрели старые вестерны.
Мизия глубоко вздохнула и повернулась ко мне; у нее был такой же взгляд, как когда Марко подначивал ее стать главной героиней фильма.
— Ливио, — сказала она, — ты потрясающе рисуешь. Почему ты не займешься этим, вместо того чтобы чувствовать себя носильщиком при Марко?
Я не ожидал такого искреннего, дружеского участия; оно побуждало меня принять, наконец, твердое решение, и я сказал: «В каком смысле?»