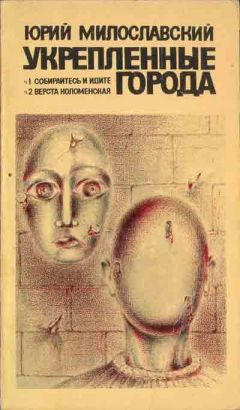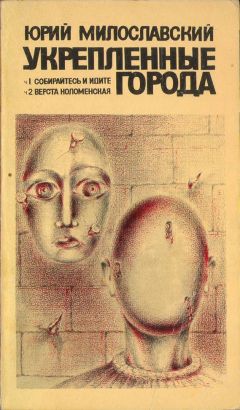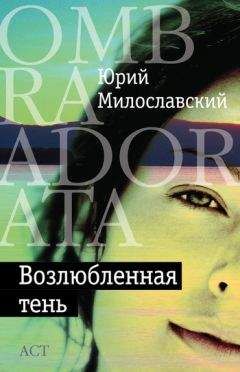Попутная надыбалась сразу: излюбленный автомобиль иммигрантов из СССР «Вольво». Он взял меня охотно, сам распахнул дверцу, сказал: «Садись, пожалуйста, солдат» — с таким прононсом, что я не стал притворяться, а ответил на родном:
— Спасибо вам большое.
«Вольво» жил в новом районе возле Дворца Наместника, в Нивах Яакова навещал интимно мать-одиночку из Черновиц, сам приеехал из Риги, ни хера порядка нет в государстве.
Анечка попала на улицу Нарциссов (угол улицы короля Георга), сбежав из трехжильцовой государственной квартиры, где получила комнату по распределению от репатриантской жилищной конторы. Три комнаты — три жильчихи. Сабина из Бразилии, Анджела из Соединенных и Анечка. Туда ходили ребятушки из кафе «Вкусняк» — члены движения «Черные пантеры», репортеры еженедельника «Сей мир», студенты Академии художеств. И поскольку они для Анечки все были на одно лицо и на одно все остальное, как для нас с вами — китайцы, она так и не научилась отличать — кто сегодня к ней пришел, а кто вчера с ночи остался: лежит коричневой задницей вверх на Анечкином пледе — прощальном подарке. А вскоре появился у Анечки в гостях Эли Машиях — без бедер, в штанах «Голубой Доллар», в рубашке «Чарли», с лепестками гашиша в серебряной фольге — приехал на плохой машине «Субару». Вкусняки теперь ходили только к Сабине и Анджеле, а Эли Машиях твердо решил заработать Анечкой новую телегу. В прямом смысле заработать и в переносном: у Анечки были водительские права, что позволяло ей купить машину без налогов. Поэтому Эли метил на «мерседес». Я знаю Анечку — она не скоро поняла бы, что происходит. Но растворилась моя записка между камнями Стены — и налетели менты на государственную коммунальную Анечкину квартиру, нашли лепесток — он же палец — и дали всем присутствующим по три года условно. Всем, кроме Эли Машияха: ему сказали, чтоб он туда больше не ходил… Он и послушался — перестал.
Есть город Евпатория, где раньше татары жили. Теперь не живут. Он, город, похож на улицу Нарциссов, на Анечкин дом — пузырчатый известняк, черные деревья, не умеющие шелестеть, плитчатый придворок — без двора, желтый свет на лестнице винтом. Но евпаторийский свет горит сам по себе, на Анечкиной же лестнице жмется кнопка: бахает тогда неисправное реле-автомат, загораются лампы и жужжат. Горит ровно двадцать секунд, потом гаснет. И надо мне добежать до Анечкиной двери, что на верхнем, последнем третьем этаже, возле самого бахающего реле. Можно и по дороге еще раз нажать — кнопки на каждой площадке, только они испортились.
Я забыл сказать, что Анечка не работает второй месяц — специальности нет, а на курсы не идет, языка местного не знает. Она вся закрылась, защитилась, вот и не знает, даже хозяина тутошним матом послать не может. Доходов и у меня мало, но несу я ей добытую по складскому знакомству «боевую порцию»: две банки консервированной говядины, банку соленых помидоров, банку компота, банку шоколадной пасты, шесть леденцов разного окраса, четыре белых пластмассовых вилки, столько же ножиков, тарелок — и вершину добычи: вытащенную из не менее боевой, но пасхальной порции бутылку вина «Красное старое»!
Заработало реле, и побежал я, тюкаясь винтовкой о стены и перила.
Уличный умелец набрал Анечке за десятку ее фамилию и имя латинскими жестяными буквами на деревянной плашке. К плашке Анечка привесила самостоятельно привезенный невропатологический молоточек — на ленте. Забавно и оригинально. И барабаню я в дверь, и засматриваю в глазок, и не вижу ничего, и кулаком стучу, и ожидаю, и чуть не плачу, и белеет мой армейский загар в облупе. А свет, понятно, погас. Спускаюсь, заклиниваю кнопку спичкой, вновь наверх поднимаюсь, и уж не стучу, а замираю — слушаю, как дорабатывает свое Анечкин транзистор-мыльница на доходных батарейках:
«Здесь вещание Израиля из Иерусалима. Часов — восемь. Это новости из уст Хаима Тадмона. В городах Иудеи и Самарии продолжались сегодня в течение всего дня нарушения порядка…»
«Родиться с тобою утром, вечером — умереть, шагать по земле, текущей молоком, горечью и медом, и с каждым днем любить тебя сильнее, и идти за тобой, как пленный…»
Ломаю дверь?
ЧАСТЬ 2. Верста Коломенская
Мы срослись. Как река к берегам
Примерзает гусиною кожей,
Так земля примерзает к ногам,
А душа — к пустырям бездорожий.
Олег Чухонцев
Анечку Розенкранц привезли на погост, затянутую в черный сатиновый мешок, наподобие школьной торбочки для калош. С такою ходил я на занятия до четвертого класса — с октября по переход апреля в май. Но на моей торбочке были вышиты имя-фамилия, а на Анечкиной — нет. Анечку негрубо спихнули в выложенную цементными пластинами яму, прикрыли сверку пластинами же: построили ей домик. Ранним вечером Анечка померла, поздним утром ее похоронили.
…Замок выпятился и опять погрузился И собственный пропил, освободив введенные заподлицо головки винтов с залитыми старой эмалью шлицами, язычок замковый отступил из ложа на косяке — и дверь открылась. Был от этого громкий скрип, Пыл мой выкрик, а перед тем — как бы слесарный стук-бряк, но ни одна соседина не высунулась на проверку. А что высовываться, я и сам бы не выполз…
Светился настольник под абажуром, на нем же Анечка записывала разноцветными фломастерами телефонные номера, грелся московский электрокамин с натурально изображенными пламенем и углем, — Братская ГЭС тока не жалеет. По стене следовала открытая водопроводная труба — зазор меж нею и стеною определен скобами вживленными в штукатурку. Труба завершалась краном над раковиной, раковина была заткнута пробкою, стояла там замыленная вода, в воде отмокали трусики. На длинном ремне, переброшенном через трубу — промеж шкафом и раковиной — висела Анечка, одетая в мужской халат посекшегося сизого шелка. Щеки Анечки были черны от краски, стекшей с ресниц, Я погасил камин, и он — потрескивая и сокращаясь — принялся остывать; в комнате стоял кирпичный жар, увлажненный кисло-глюкозным духом плавленной резины — органика. Так что ритуальные действия — поиски телефона, беготня по квартирам и прочие аптечки первой помощи — были ни к чему. На анечкином будильнике с двумя латунными колокольцами заходило за восемь: прибытие ментов, врачей и остальных заняло бы часа полтора. К десяти часам вечера я должен оказаться на базе — как штык! Меня опоздавшего вполне могли на Анечкины похороны не выпустить — кто я ей такой?! Кроме того! подпоручик Дан не имел никакого права освобождать меня в часы действия приказа о боевой готовности. И просить его об этом я не должен был…
Сплотку ключей я нашел в карь анечкиного пальто. Выбрал бывший нужный, проверил вышибленный замок. Ничего не вышло. Возясь, обнаружил, что двери — если замок вывинтить вовсе — можно плотно притворить, пазы не перекосило. Но и это мне не годилось: дверь должна быть заперта, чтобы сломать ее еще раз. Анечка покачивалась, домашняя обувка без задников намеревалась свалиться, придерживаясь лишь на скорченных пальчиках. Я оставил замок и разул ее.
После двадцатиминутного копошения, когда Анечкин маникюрный надфилек стал отверткой, замок не то чтобы починился навсегда, но задвигался. Я завел винты по местам, изъял из набора ключей квартирной и от ящика в почтовой конторе, проверил — не забыл ли чего своего и вышел. Запер снаружи. Любой задолбанный ментяра из телесерии сообразил бы, что с замком нечто творили. Но в бытии ментовская проницательность расходуется на другое. Я потрогал выпуклое Rosenkranz Anna — и пошел-пошел вниз по лестнице. Па первом этаже шоколадная сиська в желтом кимоно выперлась мне наперерез — не стерпела. Зыркнула, разыграла понятную ошибку: спросила «Сами, это ты?» и утопилась в свою хату.
Нет в Иудее зимы, весны, осени. Есть только лето — четыре месяца холодное, восемь месяцев горячее. Но выпадают два-три дня на все времена года, и в этот март анечкиной смерти, в самый ее вечер, когда возвращался я в Рамаллу на армейском «джипе» с белыми цифрами на черном номере, — был мокрым ветер и вопили невидимые прутья по сторонам дороги. Вдавленные в крупнозернистую слякоть, лежали по обочинам кошачье-собачьи тушки, пересчитанные нашими фарами: по одной тушке на каждые сто двадцать пять метров.
Ехали — и приехали. Обиталище мое: английская колониальная крепостца, выстроенная стандартным квадратом с полу башней. «Джип» покатил дальше, в тренировочный лагерь у холма Дом Божий, а я, сквозь спецворота, мимо двух одурелых в касках, мимо фанерных щитиков с надписями «Пот сохраняет кровь», «Солдат, отдавай честь командиру», приблизился к комнат дежурного офицера. А дежурный-то офицер — подпоручик Дан, мой непосредственный, оттого и решился я попросить увольнительную, а он — отказать не решился. А если б я ее не получил? Что сделалось бы там, на улице Нарциссов, на который бы день появился у того замка околоточный надзиратель? А мне бы кто сообщил? А никто.