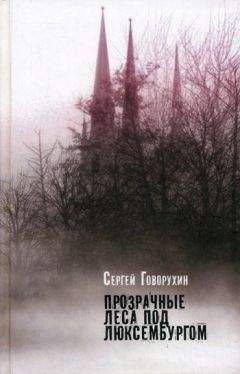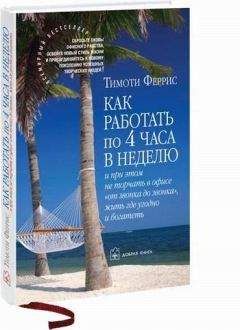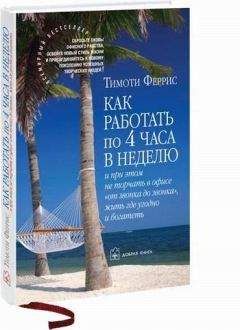– Электрошок сюда! Быстрее же! Ну быстрее же, вы! – кричал в открытую дверь врач.
Она подошла к постели, опустилась на колени и положила голову ему на грудь.
– Не надо, – тихо сказала она. – Он не хотел возвращаться.
Но ее никто не услышал.
1999Сочинение на уходящую тему
Головокружительно уходит вперед технический прогресс. Я и не пытаюсь бежать с ним наравне. Отпущенного на мой век времени остается все меньше и меньше.
Или я его прожил?
Для чего мне Интернет? Вернет ли он прошлое?
А собственно, зачем оно мне, прошлое? Потому что беспомощен перед настоящим. И совершенно не могу представить будущего.
Говорят, посредством Интернета можно общаться со всем миром. Это нам-то, не способным услышать друг друга.
Всю жизнь размышлял о самоценности мысли, не высказанной вслух. «Размышлял о мысли» – стилистический оборот писателя. Но я действительно размышлял, а тем временем мысли наслаивались друг на друга, перебивали непредсказуемостью ассоциаций, и было необходимо, бросив все, записывать, записывать… Но уже терялась связующая нить, исчезали первозданность и глубина, и бумага являла собой жалкие выжимки вдохновения.
Вдохновения, растворившегося внутри.
Изобретен речевой адаптер. Наговариваешь на него все, что приходит в голову, и в тоже мгновение сумятица твоих мыслей воспроизводится на экране монитора.
Долгими безумными ночами я ломал ручки и разбивал в кровь пальцы – тогда мне довелось узнать, как не успевает за мыслью рука, держащая перо.
Речевой адаптер, с которым можно разговаривать часами. Позже бы я отсекал лишнее, словесную чепуху, добираясь до каркаса своего замысла, и был бы упоительно счастлив этой работе.
Мне нужен адаптер, и нет на него денег.
На главное, составляющее основу нашего предназначения, всегда не хватает денег. Художнику – на кисти, мне вот – на адаптер.
Так проходит жизнь.
Речевой адаптер – часть технического прогресса. Возможно, лучшая. Примирил бы он меня с действительностью? Не знаю. Все чаще я прихожу к выводу, что скоро моим единственным читателем буду я сам.
Человечество утратило связь времен. Слово, скрипичный ключ, гуашь на холсте растворяются в двадцатом столетии. Зачем они молодому энергичному человеку с ноутбуком в руках? Там, на пороге космических скоростей…
Электронный цыпленок-тамагочи вытесняет из нашей жизни бродячих собак. Слово становится знаком, музыка – производной синтезатора, необходимые мысли заложены в компьютерную память.
И все дальше остаются за иллюминаторами бизнес-класса сквозняки в разбитых стеклах телефонов-автоматов, треск керосиновой лампы, лесные озера, прямоугольники писем, начинающиеся словами: «Дорогие Татьяна Львовна, Николай Васильевич, дети Анечка и Сашенька…»
Конечно, это не рассказ – размышления о мыслях, которые я попробовал записать.
В институте нас учили придерживаться строгих литературных форм. Долгие годы я придерживался, пока не прочел в предисловии к сборнику стихов одного поэта такие строчки: «Кто-то любит кашу, кто-то компот, а я люблю кашу с компотом!»
Стихи мне понравились, а сочинить кашу с компотом так и не удалось. Пусть это будет еще одной попыткой.
Или последней данью литературе.
Кто знает: может, скоро знак равенства между количеством слов и центов станет для меня нормой.
Смотрите, как это просто: «Он стремительно выдернул из-за пояса “ПМ” с глушителем и дважды выстрелил в исказившееся от страха лицо Хрипатого…»
И попробуйте, докажите, что это не литература. Читают-то это. И только.
Мы покидали поле брани,
И за незримою чертой
Ту женщину с цветком герани
Забыл придуманный герой.
Мы уходили из искусства
Туда, где смокинги и смог
Владеют первозданным чувством
И пылью пройденных дорог.
Пыль пройденных дорог, намертво въевшаяся в нас.
Когда-то я отказался от женщины, которую любил. Отказался неосознанно и всю последующую жизнь пытался осмыслить свое импульсивное решение. И лишь недавно понял: то была рука провидения.
Позже мы встретились: вежливые дети – одни из первых по успеваемости в классе, муж в народном образовании, фарфоровая супница на столе, запланированный семейный отпуск, абонементы в Большой зал консерватории, работа поближе к дому…
Пыль московских улиц постепенно оседает на костюме – два раза в год ему требуется химчистка.
Я представил, что все это могло быть со мной.
Пройденные дороги: северные трассы, минные поля, горный серпантин…
«Если бы парни всей земли…» Что-то они должны были сделать, парни. Что-то хорошее и очень светлое. Следуя тогдашней доктрине о всеобщем торжестве коммунизма.
Я услышал эту песню еще мальчишкой. И вот мы выросли. И взялись за оружие. Все. Каждый за свое.
Мы убиваем друг друга по-разному. И реже всего на войне. Потому что на поле боя погибают самые беззащитные. Как ни парадоксально.
Сколько их было, войн… На мою долю выпало три. В течение пяти лет.
На одних казалось невозможным уцелеть, другие напоминали бесконечное вооруженное путешествие по горным перевалам. Убивали на тех и на других. На первых смерть была ближе и осязаемей, на вторых являлась неожиданно: в тот момент, когда ты протягивал руку к кусту боярышника…
Здесь не говорят торжественных слов и не голосят над погибшими. Ужас войны в ее обыденности. И лишь время спустя, пройдя все круги ада, ты начинаешь сознавать, что вытащил счастливый билет. А было этих билетов – на пальцах перечесть.
И сознавая все – возвращаешься обратно.
Война перечеркнула мою жизнь. Словно ничего не было до нее.
Это трудно понять окружающим, а мне – невозможно объяснить. Как объяснить состояние человека тягучей, как смола, афганской ночью, обманчивую тишину которой нарушают редкие трассирующие очереди, думающего не о возвращении домой, а о том, как он ступит на пыльную «взлетку» душанбинского аэродрома, возьмет частника, доберется до центрального парка и сядет пить с капитанами и майорами, которые, в сущности, являются ему чужими людьми.
Судьба свела нас на одних дорогах войны, и потому мы были счастливы видеть друг друга живыми и не скрывали своего счастья.
Стремиться на войну в сорок лет глупо. По меньшей мере, безрассудно. Говорить об этом неловко. И все-таки мы уходим.
Мы не то чтобы не довоевали, но рано или поздно наступает день и час, когда необходимо прикоснуться друг к другу локтями, ощутить ту самую неразрывную связь совместно пройденных дорог. А потом сидеть и говорить о том, о чем больше никогда и ни с кем не поговоришь.
А может, и не довоевали. Наши войны, больше значившиеся в официальных сводках вооруженными конфликтами, где шансов выжить было ровно столько же, сколько и умереть, ничтожны по сравнению с той единственной – Великой Отечественной.
Мы недобрали тех ощущений, после которых уже ни хочется ничего, кроме как валяться в измятой росной траве, слушать треск кузнечиков над головой и сознавать свою неубитость.
Небо в этот час должно быть синее и бездонное, река – холодная и небыстрая, а месяц – май, легший на плечи четырехлетней усталостью только что окончившейся войны. Усталостью, опустошающей настолько, чтобы уже никогда не хотелось браться за оружие.
Опустошение войной. Еще не пережитое нами.
Когда я умру – поставьте над моей могилой обыкновенный сваренный из нержавейки обелиск с красной жестяной звездочкой. Не из-за приверженности к какому-либо политическому устройству, а лишь потому, что душа моя и мысли навсегда остались в той эпохе.
Я пережил свою эпоху на пятнадцать лет. Вероятно, буду жить и дальше. В бесконечном противоречии с окружающим миром, которого никогда не сумею постичь.
Раньше я не принимал эмиграции. Оборвать связь с родиной казалось мне невозможным. И вот я стал эмигрантом своей эпохи. Садом без земли. Ростком, занесенным на крышу небоскреба.
Я пустил корни и, задыхаясь, пробился через толщу синтетической кровли, а пробившись, понял, что стремление к жизни – еще не есть жизнь.
Нас тогда было много на этой крыше. Теперь – почти никого.
Положите меня рядом с Гроссманом на Троекуровском кладбище – я буду разговаривать с ним оставшуюся вечность.
Именно с ним мне необходимо поговорить. О мужестве и одиночестве писателя. О великом таинстве слова. О времени, стирающем слова.
Но есть ли что за гранью нашего бытия?
За всю жизнь мне так и не довелось получить подтверждения существования высшего разума. И когда я истово молился, взывая к милосердию, и неистово отвергал – результат оставался неизменным.
Война лишила меня ноги. Несколько лет под Новый год сын просил у Деда Мороза ногу.
«Прошу тебя, верни моему папе ногу. Пусть завтра утром она будет лежать под елкой…»
И ничего не просил для себя.
Дед Мороз и Господь Бог были для него тождественны. Они могут все – убеждали взрослые, давно разуверившиеся в этом убеждении.