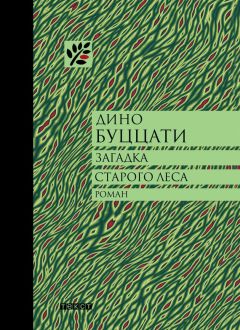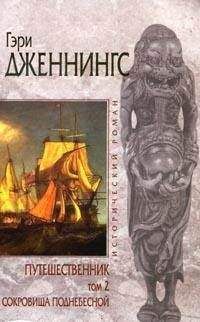Стало совсем темно. Дрого устроился в пустом помещении редута и велел принести себе бумагу, чернила и ручку.
«Дорогая мама», — вывел он и сразу же почувствовал себя мальчишкой. Никто его не видел, он сидел при свете фонаря один в самом сердце незнакомой ему Крепости, вдали от дома, от милых привычных вещей и утешал себя мыслью, что может наконец открыться, излить все, что у него на душе.
Конечно, с другими, со своими коллегами-офицерами он должен вести себя как настоящий мужчина, смеяться вместе с ними, рассказывать смелые анекдоты о генералах и женщинах; Кому, как не маме, может он открыть правду? А правда Дрого в этот вечер не была правдой бравого вояки и, очевидно, не отвечала суровым нравам Крепости: здесь все только посмеялись бы над ним. Правдой была усталость от дальней дороги, гнет мрачных стен, ощущение полного одиночества.
«Два дня, проведенные в пути, совсем измотали меня, — вот что хотел бы он написать, — а по прибытии я узнал, что при желании могу вернуться в город. Крепость — место унылое, поблизости нет никаких селений, никаких развлечений, в общем, ничего веселого». Вот что хотел бы он написать.
Но тут Дрого представил себе маму: в эту минуту она, должно быть, думает именно о нем и тешит себя мыслью, что сыну ее сейчас хорошо в кругу добрых друзей, а может — как знать? — и подруг. Конечно же, она надеется, что он доволен жизнью и спокоен.
«Дорогая мама, — выводила его рука. — Я прибыл к месту назначения позавчера, проделав интереснейшее путешествие. Крепость — это нечто грандиозное…» О, если бы он мог описать ей все убожество здешней обстановки, витающий в Крепости дух наказания и ссылки, этих чужих ему и каких-то нелепых людей. А он писал: «Офицеры приняли меня очень сердечно. И старший адъютант был со мной весьма любезен и предоставил мне полную свободу выбора: остаться здесь или вернуться в город. И все же…»
Может, как раз в этот момент мама ходит по его опустевшей комнате, открывает какой-нибудь ящик, аккуратно перекладывает его старую одежду, приводит в порядок книги, письменный стол; она проделывала это уже столько раз, но ей кажется, что так ощутимей присутствие сына, словно он, как обычно, должен вернуться домой к ужину. Ему мерещился привычный звук маминых частых беспокойных шагов, выдававших ее вечные заботы о ком-нибудь. Разве достанет ему смелости огорчить ее? Если бы Джованни был дома, в той же комнате, под семейным абажуром, вот тогда он действительно рассказал бы ей обо всем, и мама просто не успела бы огорчиться, потому что он сидел бы рядом и все плохое уже осталось бы позади. Но вот так, вдали от нее, взять все и написать!.. Если бы они сидели рядышком перед камином в тишине надежного старого дома — о, тогда конечно, тогда он рассказал бы ей о майоре Матти, о его коварных посулах и о причудах Тронка! Он рассказал бы ей, как по глупости принял предложение остаться здесь на четыре месяца, и они вместе, наверно, посмеялись бы над его оплошностью. Но как это сделать, находясь от нее вдали?
«И все же, — продолжал писать Дрого, — я счел за лучшее для себя да и для своей карьеры остаться на какое-то время в Крепости… К тому же народ здесь очень симпатичный, служба простая, не утомительная». А его комната? Бульканье воды за стеной? Встреча с капитаном Ортицом? Безжизненная северная земля? Не станет же он описывать железный устав, редут, убогое караульное помещение, где он сейчас сидит! Нет, даже с мамой не может он быть откровенным, даже ей нельзя признаться в смутных страхах, не дававших ему покоя.
Там, дома, в городе, часы не в лад и на разные голоса били сейчас десять вечера, и на их бой тоненьким дребезжанием откликалась стеклянная посуда на буфетных полках; из кухни доносились голоса и смех, а с противоположной стороны улицы — звуки фортепьяно. Через узенькое, похожее на бойницу окошко можно было вновь посмотреть на северную долину, на эту унылую землю; но сейчас к окошку подступила плотная темнота. Перо слегка поскрипывало. Вокруг царила ночь, между зубцами стены начал свистеть ветер, навевая какие-то тревожные думы, и хотя в редуте сгустилась темень и воздух был сырой и тяжелый, Дрого писал: «В общем, я очень доволен и чувствую себя хорошо».
С девяти вечера и до рассвета каждые полчаса звучал удар колокола в четвертом редуте на правом фланге перевала — там, где кончалась стена. Сначала слышался удар маленького колокола, и тотчас часовой окликал ближайшего своего товарища, а тот — следующего, и так — до противоположного конца стены, от редута к редуту, через форт и далее в ночной темноте совершалась перекличка. «Слушай! Слушай!» Часовые выкрикивали эти слова равнодушно, монотонно, каким-то неестественным голосом.
Не раздеваясь, Джованни Дрого прилег на койку; но и сквозь овладевающее им сонное оцепенение через определенные промежутки времени его ушей достигала эта далекая перекличка: «Слу… лу… лу…» Крик накатывал, становился все громче, проносясь над ним, набирал наибольшую силу и, постепенно замирая, удалялся по другой стене. Спустя две минуты он возвращался, но уже как отклик, с первой башни слева. И опять через равные промежутки времени раздавалось: «Слу… лу… лу…» Лишь когда этот крик звучал прямо над головой, подхваченный часовыми его отряда, Дрого мог разобрать слово полностью. Но вскоре это «Слушай!» снова превращалось в какой-то протяжный стон, замиравший наконец там, где у самого подножия скал стоял последний часовой.
Джованни слышал, как этот крик четырежды прокатился с одного фланга на другой и четырежды возвратился по стене Крепости к исходной точке. На пятый раз до сознания Дрого дошел лишь слабый отзвук, от которого он слегка вздрогнул. И подумал, что не пристало офицеру спать на дежурстве. Вообще-то устав допускал это при условии, что офицер не будет раздеваться, однако почти у всех лейтенантов Крепости особым шиком считалось не смыкать глаз всю ночь: они читали, курили сигары, иногда в нарушение инструкций навещали друг друга и играли в карты. Тронк, которого Джованни уже успел кое о чем расспросить, намекнул ему, что бодрствовать всю ночь стало в Крепости хорошей традицией.
Джованни Дрого растянулся на койке, стоявшей так, что до нее не достигал круг света от керосиновой лампы, и предался размышлениям о своей жизни, но совершенно неожиданно его сморил сон. А между тем именно в эту ночь — о, если б он только знал, ему бы, наверно, было не до сна! — именно в эту ночь для него начался поспешный и неумолимый отсчет времени.
До сих пор он пребывал в той поре безмятежной ранней юности, когда дорога, по которой шагаешь с детства, кажется бесконечной: годы текут медленно и легко, как-то незаметно. Шагаешь себе спокойно, с любопытством поглядывая по сторонам, и нет никакой надобности торопиться, никто тебе не наступает на пятки, никто не ждет; товарищи твои идут рядом так же бездумно, часто останавливаясь, чтобы пошутить, посмеяться. Взрослые с порога добродушно приветствуют тебя и с многозначительной улыбкой указывают куда-то на горизонт; и тут твое сердце начинает биться от сладостных мечтаний и предвкушения героических дел, ты уже предчувствуешь все то замечательное, что ждет тебя впереди; ничего пока еще не видно, нет, но ты уверен, ты абсолютно уверен, что придет время и все сбудется.
Долго ли еще идти? Нет, надо только через эту реку переправиться, вон она — внизу, и перевалить через те зеленые холмы. А может, мы уже на месте? Разве не к этим деревьям, не к этим лугам, не к этому белому дому мы стремились? На какое-то мгновение начинает казаться, что да, так оно и есть и надо остановиться. А потом нам говорят, что лучшее — впереди, и мы снова беззаботно трогаемся в путь.
Так и идем себе, в доверчивом ожидании лучшего, а дни длинны и спокойны, высоко в небе сияет солнце и, похоже, не собирается клониться к закату.
Но в какой-то момент, почти инстинктивно, мы оглядываемся назад и видим, что ворота у нас за спиной прочно закрыты и обратного пути нет. Вот тогда и замечаешь: что-то переменилось, солнце уже не кажется неподвижным, а быстро катится по небу: не успеешь полюбоваться на него, как оно, увы, уже стремительно приближается к горизонту; облака не плавают больше в лазурных заводях неба, а, торопливо наползая друг на друга, куда-то несутся; и тут начинаешь понимать, что время проходит и твоя дорога рано или поздно должна кончиться.
Да, наступает момент, когда у нас за спиной молниеносно захлопываются тяжелые ворота и их тотчас запирают — вернуться уже не успеешь. Но именно в этот момент Джованни Дрого спал сном праведника и улыбался во сне, как ребенок.
Пройдет немало дней, прежде чем Дрого осознает, что случилось. Тогда для него наступит пробуждение. Он недоверчиво оглядится вокруг, услышит звук настигающих его шагов, увидит людей, которые проснулись раньше и торопятся его обогнать, чтобы первыми прийти к цели. Он услышит, как пульсирует время, скупо отмеривая дни его жизни. И увидит в окнах уже не смеющиеся, а застывшие и безучастные лица. И если он спросит, долго ли ему еще идти, люди кивнут, опять-таки указывая на горизонт, но уже не будет в этих жестах ни доброты, ни приветливости. Друзья меж тем потеряются из виду, кто-то, выбившись из сил, останется позади, кто-то вырвется вперед: вон он — крошечная точка у горизонта.