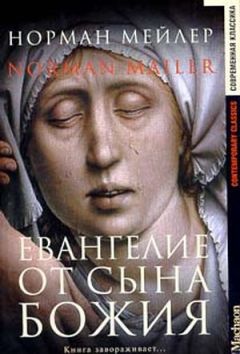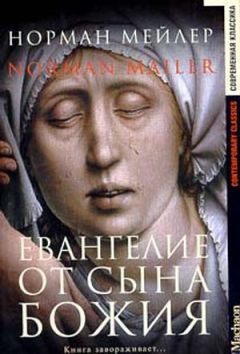— Призрак! — закричал кто-то. Но я промолвил:
— Где ваша храбрость? Это же я. Я. — И, желая убедить их, что я не призрак, добавил: — Не бойтесь.
Тогда Петр сказал: —Наставник, если это ты, позови меня к себе.
— Иди же.
Петр ступил за борт. Мы оба надеялись, что он сможет пройти по водам. Но его сбил порыв сильного ветра. Он стал тонуть.
— Господи, спаси! — закричал он.
Я протянул руку, вытащил его из воды и спросил:
— Почему ты усомнился?
И, не дожидаясь ответа, поднялся с ним в лодку.
Тогда-то я и понял, что Петр всегда спешит выказать свою преданность. Но наступит час, когда он предаст меня. Поскольку вера живет в словах, а не в ногах его. Бог же никогда не выразится в чувствах и словах людских. Только в деяниях. И это справедливо. Ибо дьявол, поднабравшись у Бога красноречия, научился лепить ловкие, пышные, трогающие душу фразы из красивых, но пустых слов-однодневок.
Когда мы с Петром ступили на борт, ученики спросили:
— Ты — Сын Всевышнего?
Они задавали этот вопрос и прежде. И каждый раз было в их голосах что-то, что подсказывало мне: они готовы поверить. Но звучало в их голосах и другое: они еще не верят. С каждым днем они были все ближе, ближе к вере, но…
…Нет, еще не время. Сейчас я понял: в них есть и преданность, и предательство. И сегодня ночью, когда сам я ликую, потому что ощутил близость к Отцу моему, они не смогут разделить мое ликование. И затаят в сердце обиду.
Проведя ночь на воде, мы высадились поутру в Геннисаретских землях, и нас снова окружили толпы. Страждущие выползли на улицы и поджидали нас, валяясь в пыли.
К полудню я устал; к вечеру был изможден совершенно, и одежды мои впитали мольбы всех несчастных. Войдя в синагогу, я увидел фарисеев и даже книжников: они специально пришли сюда из Иерусалима.
Они сказали, что видели, как мои ученики едят хлеб нечистыми руками. Ведь они сидят на городских площадях и собирают для римлян налоги, они день напролет перебирают монеты, а после ночь напролет играют на прикарманенные монеты в азартные игры. Как же можно иметь при этом чистые руки? Вот фарисеи, когда приходят с базара, даже к столу не садятся, не омыв рук. Но разве угодишь ревнителям благочестия? Как ни старайся, как ни чти букву закона, им все мало. Да и не может обычный человек соблюсти религиозный закон до последней буквы. Поскольку написан он людьми куда более благочестивыми, чем он сам. Так и выходит, что закон пусть на самую каплю, но нарушается. Человек поминутно его преступает. Поэтому я встал в синагоге перед фарисеями и заговорил с ними, точно врач:
— Ничто извне не может проникнуть в человека и осквернить его. Оскверняет только то, что исходит изнутри. Имеющие уши да услышат!
Среди фарисеев раздался приглушенный ропот. Как смею я в синагоге, при алтаре, вспоминать о природной нечистоте человека, который вынужден испражняться по несколько раз на дню? Как смею я оскорблять священный алтарь?
Но я говорил не только с фарисеями. Меня слушали и мои последователи. Поэтому я не сдавался.
— Ничто извне не проникнет в сердце человека, оно попадет только в живот и оттуда же выйдет, — произнес я и добавил шепотом: — Грязь на руках — это ерунда.
Думаю, мой шепот все равно был услышан. Я продолжал громко:
— Оскверняет то, что исходит изнутри, из сердца. Недобрые мысли, прелюбодейство, блуд, убийство и воровство, алчность и злодеяние, обман и богохульство, гордыня и даже сглаз.
Негодование захлестнуло меня такой мощной, такой сокрушительной волной, что я задохнулся. И умолк. Эти фарисеи упрекают других за грязные руки, а сами даже не знают меры своего порока. Еще бы им не бояться идущего извне зла! Они же боятся дорожной пыли, боятся земли с полей! Им кажется — и для них это непреложная истина, — что достаточно чуть-чуть, самую малость, преступить закон, и они перестанут различать добро и зло. Послушать их, так грязь — это целое море грехов. Но найдется ли хотя бы в одном из них такая любовь к Господу, чтобы поступиться всем, что он имеет?
Я вышел из синагоги. И до исхода ночи успел еще исцелить одного глухонемого. Едва я дотронулся до его ушей, он сплюнул; потом я коснулся его языка, и он взглянул на небеса и глубоко вздохнул. Тут я произнес: — Откройся.
Его уши открылись. Развязались и путы, стягивавшие язык. Он заговорил. Я улыбнулся. Теперь-то фарисеям придется признать (причем в весьма выспренних выражениях): «Он не омывает рук, но возвращает глухим слух и немым речь».
В другой день я собрался было уединиться и отдохнуть в пустыне, но за мной последовали толпы страждущих, и нам опять не хватило пищи. На этот раз у нас с собою оказалось семь хлебов, и я снова разделил их на кусочки и раздал ученикам. Они же прошли меж людей и наделили хлебом всех до единого. Голодным никто не остался.
Однако часы, проведенные мною на горе, моя нагорная проповедь остались в прошлом. Тогда я говорил только о моей любви к Господу, говорил своими собственными словами — Он не вложил в мои уста ни единого слова. Теперь же жизнь была снова исполнена сурового долга. Поэтому, должно быть, я так много размышлял о Моисее. Ему пришлось выслушать, как дети Израиля стенают в пустыне. Они, те, кто пошел за ним, вопрошали: «Кто накормит нас? Мы помним, как ели в Египте рыбу, мы помним огурцы и дыни, лук зеленый и репчатый и чеснок. А ныне душа наша изнывает». И никто из них не обрадовался посланной Богом манне. Они ее собрали, смололи, испекли лепешки, но манные лепешки пахли маслом кориандра. И люди плакали возле своих шатров. Сам Моисей и тот не был рад. Он сказал Богу: «Зачем Ты возложил на меня бремя народа моего? Разве я породил этих людей? Мне тяжело отвечать за всех».
И Моисей попросил Бога умертвить его, поскольку жизнь его — сплошное несчастье.
И Бог сказал: «Твой народ будет есть, покуда пища не пойдет из ноздрей их и не сделается им отвратительна».
Теперь я глубоко понимал Моисееву усталость. Усталость духа напоминает вывих ноги: каждый шаг прибавляет к старой боли новую.
Однажды, когда я входил в Вифсаиду, ко мне от городских ворот подвели слепца. Я взял его за руку и увел прочь, чтобы никто не стал свидетелем исцеления.
Я плюнул ему в глаза, возложил на него свои грязные, немытые руки и спросил:
— Что ты видишь?
Он взглянул вверх и произнес:
— Вижу людей, похожих на деревья, которые ходят.
Это потому, что люди, подобно деревьям, могут давать и хорошие, и плохие плоды, — пояснил я.
И снова возложил на него руки. Тут он полностью исцелился и стал различать людей совершенно ясно. Я отослал его домой и велел никому ни о чем не рассказывать (хотя был уверен, что он нарушит запрет). Я был так изможден, что не знал, на сколько еще исцелений меня хватит. Было похоже, что Бог, помогая мне творить чудеса, и сам утомился донельзя. Впрочем, в этом я боялся признаться даже самому себе.
Мне случалось проснуться ночью с мыслью: кто я? Однажды, проходя по городу Кесария Филиппова, я спросил учеников:
— Что говорят обо мне люди? За кого по читают?
Одни сказали: «За Иоанна Крестителя». Другие: «За Илию». Третьи сказали: «Они не знают, но думают, что ты — один из старых пророков».
— А вы как думаете? Кто я? — спросил я с бьющимся сердцем.
И Петр, должно быть вспомнив, как я шел по водам, тихо произнес:
— Осмелюсь ли сказать, что ты — Христос?
Поскольку я во всем, кроме одного, чувствовал себя вполне обычным человеком, я возлюбил Петра за его веру. Она придала мне сил. Должно быть, я и вправду Сын Божий. Но как поверить в это окончательно, если никто меня не признает?
Я начал осознавать, что нужно порой заглядывать в темноту, которая всегда таится за светом и радостью. И мне захотелось открыть эту истину моим ученикам. Я рассказал им сон, который являлся мне семь ночей кряду: мне снилось, будто в Иерусалим приходит Сын Человеческий, но первосвященник его отвергает и жизнь его кончается распятием на кресте.
Выслушав мой рассказ, апостолы сказали:
— Нет, ты будешь жить вечно. И заодно мы с тобой.
Тут я понял, почему тьма лежит так близко от желания возвыситься над людьми. Они любили меня не за то, что я учил их любить других, а за то, что умел творить чудеса. Они мечтали проповедовать, как я, но не для того, чтобы нести любовь, а чтобы усилить свою власть над другими. И я укорил их, сказав:
— Вы рассуждаете не по-Божески, а по-людски.
Тут воцарилось молчание, и сон явился мне снова.
— Если меня убьют, я воскресну через три дня, — промолвил я, вовсе не уверенный в том, что это правда.
Я заглянул им в глаза — проверить, открыты ли их души. Потому что именно сейчас должно было произойти — или не произойти — чудо. Уверуют ли они? Однако в глазах учеников я увидел лишь тяжесть духа. Ту тяжесть, которая знаменует заботу о самих себе. Я хотел привести их к вере, но теперь понял, что мною также движет не любовь, а одна лишь жажда убедить. И я вздохнул, поразившись хитросплетениям человеческого сердца. Ученики тоже вздохнули — словно все мы разом поняли, как близко оказались от истины. И как далеко.