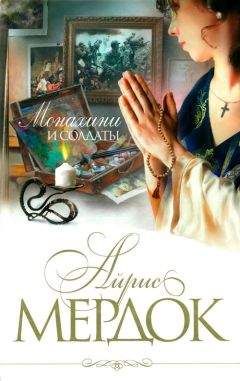— Понимаешь, — сказала Анна, разомкнув объятия, — мне не хотелось…
— У тебя ноги промокли.
— У тебя тоже. Не хотелось беспокоить тебя… да еще ты тащила чемодан с книгами…
— То есть ты сбежала и не собиралась ставить меня в известность?
— Ну, «сбежала» — слишком сильно сказано, и я, конечно, рассказала бы тебе, но, понимаешь, не хотелось навязываться, я приехала поездом, и эта гостиница…
— Да, да, да…
— Я не знала, куда пойти, а ты была так близко, вот я и подумала…
— Дорогая, дорогая, дорогая Анна, — перебила Гертруда, — поздравляю тебя с возвращением.
Анна засмеялась чуть сдержанно и коснулась щеки Гертруды. Потом села.
— Анна, ты, наверное, устала. Хочешь выпить? Теперь-то тебе можно? Поешь чего-нибудь, ты голодна? О, как я рада видеть тебя!
— Нет, пить не буду. А ты себе налей. И есть, пожалуй, не стану, не могу…
— Но ты только что выбралась на свободу, то есть, наверное, только вчера?
— Нет, все происходило постепенно. Недели две я провела в монастырском доме для гостей. Он такой заброшенный. Бродила по окрестностям. Потом несколько недель прожила в деревне, работала на почте… и вот только что приехала в Лондон…
— Ох, успокой меня. Ты действительно ушла из этого кошмарного трудового лагеря, не собираешься назад? Ты действительно покончила со всем этим?
— Да, я ушла из общины.
— А что Бог, скажи мне, покончила ты с верой?
— Ну, это долгая история…
— Ты наверняка устала, я приготовлю тебе комнату…
— Кто это была, та женщина?
— Это… это ночная сиделка…
— Сиделка?
— Гай болен… очень серьезно болен…
— Прости…
— Анна, он умирает, умирает от рака, не доживет до Рождества…
Гертруда села, и тут слезы хлынули из ее глаз, намочив перед платья. Анна вскочила и, сев на пол рядом, взяла ее руки в свои и прижалась к ним губами.
Было утро следующего дня. Ночная сиделка ушла. Ее сменила дневная. Пожилая женщина, незамужняя, морщинистая, но приятная, с легкой профессиональной улыбкой, не сходившей с лица. Она была прекрасной сиделкой, одной из тех, что преданы своему делу и глядя на которых трудно представить, что у них есть личная жизнь, какие-то стремления, невероятные мечты. Она была спокойна, неразговорчива, по-животному проворна. Она помогла Гаю подняться, накормила завтраком и теперь он сидел в халате возле кровати. Сиделка брила его. Он постоянно говорил, что на этой стадии нет смысла бриться, но не мог решиться прекратить это делать, а у Гертруды не хватило духу распорядиться за него. Она рассказала о появлении в их доме Анны, и это несколько заинтересовало его. Лицо оживилось, чего давно не случалось; она и не ожидала такого.
Анна и Гертруда сидели в гостиной. Солнце за окнами сияло на тающем снегу, разравнивая сугробы, желтя и заставляя гореть и искриться его девственную гладь на крышах и в скверах. Лондон наполнился странным таинственным светом.
— Славная квартирка.
— Да, ведь ты еще не была здесь…
— Как много тут у тебя всего.
— Ты меня упрекаешь?
— Нет, конечно! Просто я вроде как отвыкла от вещей, понимаешь, от безделушек и…
— Разве в твоей церкви не было полно противных мадонн?
— Это не… Гертруда, прости, что я нагрянула так неожиданно…
— Ты уже сотый раз это повторяешь. Куда ты еще должна была пойти, как не в этот дом? Но почему ты прежде не написала мне и не сказала, что уходишь оттуда?
— Я не смогла бы объяснить этого, не смогла бы изложить на бумаге. Так не по себе было, я как заледенела…
— Хорошо, но теперь ты объяснишь, правда? Ночью мы почти не говорили об этом.
— Скоро я должна буду уйти и найти себе гостиницу…
— Что найти? Ты остаешься здесь!
— Но, Гертруда, я не могу, не должна…
— Из-за Гая? Именно поэтому ты должна остаться. То есть я хочу, чтобы ты осталась… о боже!.. Анна, ты пришла, ты не можешь уйти, это важно… понимаешь?..
— Ладно. Но… да, я останусь… если могу быть полезной…
— Полезной!
— Я задумала… я еду в Америку… о, все это может подождать!
— Ты не едешь в Америку… Но ты так много должна мне рассказать… и просто видеть тебя — замечательно, вроде чуда.
— Понимаю, я тоже это чувствую. Рада, что хватило ума позвонить тебе.
— Ты восхитительно выглядишь. Только это платье тебе не идет.
— Я купила его в деревне.
— Заметно! Я помогу тебе приодеться, ты уже все позабыла, да и никогда особо не умела.
— У меня есть деньги, учти.
— А, пустяки…
— Для меня не пустяки. Орден намеревается помогать мне два года, пока буду искать работу или, может, получу какую-то профессию.
— Какого рода работу ты хочешь?
— На что я могу рассчитывать? Пока не знаю.
— Чем ты занималась там, в смысле интеллектуальной работы, или все сводилось к молитвам да постам?
— Немножко преподавала теологию и томистскую философию, но в несколько ограниченном и упрощенном виде — в миру я этим не заработаю. Община была не слишком интеллектуальной.
— Ты это говорила в самом начале, чем удивила меня! Ты принесла свой ум в жертву шарлатанам!
— Я могла бы преподавать латынь, французский, может, и греческий…
— Ты впустую потратила все эти годы… Придется снова задуматься над будущим.
Анна промолчала.
— Почему бы не обучиться на врача? Я помогу деньгами. Твой отец хотел, чтобы ты стала врачом.
— Слишком поздно, и в любом случае я этого не хочу.
— Что ты собиралась делать в Америке, до того как мы решили, что ты не едешь туда?
— Разве мы решили? Там католическая церковь организует курсы для таких, как я, что-то вроде курсов переподготовки: на учителей или социальных работников, и…
— Разве нет таких курсов здесь, в Англии? Или, может, ты хочешь убежать подальше? Решила «начать все заново»? Я не позволю… мы найдем тебе работу. То есть… я… найду.
— Надо подумать, — сказала Анна. Она посмотрела на подругу усталым, отрешенным взглядом и пригладила свой белокурый ежик на голове.
— В любом случае, почему ты хочешь пойти на католические курсы, разве ты не порвала с религией? Вчера ты мне не ответила на этот вопрос.
— Я ушла из ордена…
— Это ты уже говорила!
— Не имеет значения, порвала я с христианством, с церковью или нет, я хочу сказать, что не знаю и это не имеет значения.
— Я полагала, что имеет. Твои назойливые хищные монахи наверняка считают, что имеет!
— Это не имеет значения для меня. Время поставит все на место — или нет.
— Что это у тебя на шее, на цепочке, я вижу цепочку…
Анна вытащила цепочку наружу — на ней был маленький золотой крестик.
— Вот, пожалуйста! Но, Анна, ты должна понимать, должна ясно…
— Хорошо, я порвала с ними, теперь довольна?
— Ты не хочешь говорить об этом.
— Пока нет. Прости.
— И ты прости. Думаю, ты устала, нелегко тебе было освободиться из этой клетки. Приступы мигрени бывают, как прежде?
— Случаются.
— Ну, ты знаешь, что я думаю о католической церкви, как я переживала из-за того, что ты стала католичкой, — так что должна простить мою радость, что ты порвала с ней.
— О, радуйся сколько хочешь.
— Забавно, я-то думала, что ты уже стала госпожой настоятельницей.
— Я тоже думала, что стану ею к этому времени!
Они неожиданно рассмеялись — как прежде, тем немного сумасшедшим, особым, интимным смехом, в котором звучали обоюдное понимание, уверенность в себе, любовь.
— Хотелось бы тебе служить в церкви?
— Да, — ответила Анна.
— Думаю, должны быть священники женщины.
— Если ты с таким неодобрением относишься к монахиням, тогда почему хочешь, чтобы были женщины-священники?
— Ну, когда у них что-то случается, думаю, женщины должны иметь и такую возможность, если пожелают.
— Пусть даже это не лучший вариант?
— Да.
Они снова засмеялись. Я сейчас расплачусь, подумала Гертруда. Или Анна расплачется. Нельзя это сейчас. Еще успеем наплакаться. И сказала:
— Помнишь, как в колледже мы говорили: мы всех поразим?
— Помню…
— Боже, какое было время… все мужчины увивались за тобой.
— Нет, за тобой…
— И тогда мы сказали: разделим мир между нами, тебе пусть достанется Бог, мне — мамона.
— Я не слишком хорошо распорядилась своей половиной.
Бедная Анна, подумала Гертруда, годы потратила впустую, упустила молодость. Не святая, даже не аббатиса! Преподавать может только то, что никому не нужно. А я, чем мое положение лучше? Муж умирает, и ни детей нет, ни занятия. Жизнь не задалась. У обеих нас не задалась.
Они посмотрели друг на друга широко раскрытыми глазами. Прежняя дружба возвратилась так легко и естественно, что у обеих перехватило дыхание от удивления — удивления столь полной обоюдной душевной близостью. Обе они были лучшими студентками, умница Анна Кевидж, умница Гертруда Маккласки. Обе были сильными женщинами, которые могли бы стать соперницами в завоевании мира. Они поделили его между собой. Гертруде вдруг пришло на ум, как это странно, что она неким образом примирилась с удалением Анны от жизни. Она не хотела этого, отчаянно отговаривала Анну, но, когда это произошло, усмотрела в этом руку судьбы. Это, так сказать, уберегло Анну, а теперь ее возвращение изменило миропорядок. Значит ли это, что она желала, чтобы Анна жила в монастырском заточении и молилась за нее? Непостижимо! Ей хотелось каким-то образом освободиться от Анны, от проблемы Анны. Теперь Анна на свободе, и кто знает, куда она направит усилия или кем станет. Мир вновь был разделен между ними.