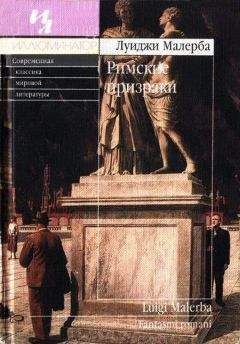Итак, Джано уже мало его безумной Деконструктивной Урбанистики, теперь он желает писать роман. По-моему, это все равно что изобретать уже существующий город с его жителями, дорогами, улицами, площадями, дворцами, памятниками, вокзалом, садами, больницей, подземными переходами, фонтанами, рынками, светофорами. Минуточку, здесь Джано забавляется, передвигая свои украденные у жизни пешки, мужчин и женщин, в соответствии с безусловной потребностью романизации реальности; в противном случае мне пришлось бы подумать, что Джано знает все секреты наших (я имею в виду себя и Занделя) отношений. И иногда мне кажется, будто я делаю то, что уже прочитала на страницах тетради Джано. Он словно списывает людей, места, характеры и реальные пороки и нас двоих, и наших друзей и, нередко, даже заглядывает вперед, чтобы вышивать по этому узору свою историю. Я уверена, что роман у него получится плохой и безусловно фальшивый, как это бывает с теми, кто претендует на описание так называемой реальной действительности. К счастью, в нем нет и следа от Хайдеггера, несмотря на бьющий через край раптус, как с изощренной иронией говаривал Зандель.
Мне очень интересно читать дальше, но я закрываю тетрадь и аккуратно кладу ее на место, чтобы Джано не заметил моих махинаций, и делаю это главным образом потому, что из-за усилий, связанных с расшифровкой этого невозможного почерка, у меня страшно разболелась голова. Но, говоря по правде, моя головная боль объясняется не только плохим почерком автора.
Я почти разочарован тем, что Кларисса отказалась от своей угрозы поехать со мной в Страсбург. По крайней мере, я так ее понял, потому что она больше об этом не заговаривала. Сначала самолет, потом ночь в маленькой гостинице напротив собора и следующая ночь — возвращение в спальном вагоне. Гостиница приличная и приятная еще и благодаря тишине пешеходной зоны вокруг собора, куда запрещено заезжать даже такси. Утром я бы поводил Клариссу по цветочному рынку, подарил бы ей, как Валерии, букетик цикламенов, а потом мы бы выпили хорошего кофе с молоком и круассанами в баре на открытом воздухе, на рю де Жюиф позади собора, в том самом месте, где мы сидели с Валерией. Я бы посмотрел в глаза бармену, чтобы понять, узнал ли он меня спустя две недели теперь уже с другой женщиной, заметно отличающейся от первой. Было бы интересно, узнала ли меня и цветочница, которая теперь, спустя две недели, продала бы мне точно такой букетик цикламенов для дамы, непохожей на ту, первую. Естественно, что вышколенная портье гостиницы, привыкшая к самым разным ситуациям, посмотрела бы на нас с демонстративным равнодушием.
Я уже решил было продублировать поступки и маршруты Валерии из чувства тайной мести и вероломства, которого Кларисса не могла бы заподозрить. С нее было бы достаточно простого удовольствия предоставить мне возможность повторить поездку в Страсбург. Месть эту я бы обратил против нее так, что она и не догадалась бы.
Я перебираю бессмысленные варианты, потому что Кларисса, получив мое согласие, перестала говорить о поездке в Страсбург, и уж не я, конечно, стану напоминать о ней.
А если бы мы в один прекрасный день решили сказать друг другу все, признаться в своих изменах (уже узаконенных), удобно устроившись в гостиной и закурив сигарету (даже я, некурящая). Теперь уже ясно, что мои отношения с Занделем и Джано с Валерией тайной остаются только формально. Джано, когда идет к Валерии, притворяется, будто у него дела в университете, я же просто выхожу из дома за всякими мелкими покупками, не отчитываясь перед Джано, и мне легко после обеда провести пару часов с Занделем. Какая рутина, какое однообразие; меня поддерживают лишь желание и любовь, любовь, подогретая тем безумным признанием Занделя.
Джано долго шпионил за мной, чтобы оправдать свои подозрения, но когда у него начала появляться уверенность в том, что я ему действительно изменяю, перестал меня выслеживать. Джано знает, что я не могу обойтись без него, хотя он мне и ненавистен. Моя ненависть жаркая, подспудная, но лишь усиливающая мою любовь. Разве это не противоречие? Ну и что?
К сожалению, Зандель внезапно уехал в Нью-Йорк там будет работать комиссия по восстановлению Ирака (который пока продолжают разрушать). Поездка эта не настолько важна, и вряд ли мнение итальянского урбаниста примут в расчет, — так он мне сказал, — но позднее будут решать, примет ли Италия участие в дележе пирога, большую часть которого успели отхватить американские компании (многие из них уже подписали контракты и договоры о восстановлении тотчас после начала военных действий).
Перед отъездом Зандель сказал мне, что об Ираке не знает ровным счетом ничего, но встреча эта будет носить совершенно неформальный характер и состоится по инициативе одного канадского члена комиссии, с которым Зандель познакомился во время туристического путешествия по Марокко. Они вместе осматривали римские памятники, вернее то, что от них сохранилось в Волубилисе, но главное — остатки арабской архитектуры в Фесе и Мекнесе, и спорили о двух культурах и архитектурных стилях: канадский урбанист стоял за арабскую, Зандель — за римскую. Спор и различие мнений породили крепкую и честную дружбу, и вот теперь канадский урбанист попросил его высказаться по ходу работы комиссии в ООН.
Спустя неделю Зандель позвонил мне по мобильнику и сказал, что ему придется задержаться в Нью-Йорке еще дней на десять. Он подхватил серьезный бронхит с температурой, из-за убийственных кондиционеров в небоскребах: то и дело после тридцатиградусной жары оказываешься на Северном полюсе. Ох это известие, этот печальный далекий голос, подорванный холодным воздухом, который Зандель вдыхал во время перелета над Атлантикой. Он всегда говорил, что нужно уехать из Рима, чтобы увидеть радугу. Ну что, видел он радугу в Нью-Йорке? Нет, ответил он, без меня он не мог ее видеть. Я приняла эти слова как добрую весть о нашем общем будущем.
После звонка прошла неделя, а потом еще две недели без известий. Чего я только не передумала: думала о каком-нибудь американском приключении, памятуя рассказы Джано о множестве его любовниц, думала о серьезной болезни, которую Зандель хотел от меня скрыть, или о каком-нибудь дурацком инциденте, в котором он не хотел признаться.
Джано и коллеги Занделя сразу заподозрили что-то нехорошее, когда жена поехала к нему в Нью-Йорк, а в Риме, кроме нее, никто не мог нам ничего сказать. Я боялась выразить свою тревогу, а молчание, к которому принуждали обстоятельства, делали отсутствие Занделя еще мучительнее. Однажды я неожиданно тихо заплакала, разглядывая витрины на улочках вокруг Пантеона. В одной из витрин отражалось мое лицо с двумя большими слезинками, которые скатывались по щекам и сливались с жемчужинами ожерелья, выставленного за бронированными стеклами. Я купила это ожерелье, чтобы надеть его, когда Зандель выздоровеет. Но уже знала, что не надену его никогда. Может быть, никогда. Лучше всегда оставлять маленький лучик надежды.
Джано запер на ключ ящик, в котором он теперь держит свой роман, но ключ оставил в скважине. Это было все равно что сказать: видишь, я заметил, что ты читаешь мою тетрадь, но если ты на этом настаиваешь, то придется тебе открыть ящик, сначала повернув ключ.
Пока Кларисса еще может устоять.
Я тревожусь о Клариссе. Ее любовник в Нью-Йорке почти два месяца, но никаких известий от него мы не получаем. В секретариат университета от Занделя пришла телеграмма: он объясняет свое отсутствие «серьезным ухудшением здоровья». Да, чтобы оправдать столь долгое отсутствие, ему поневоле пришлось писать, что состояние его здоровья внушает опасение. Но все говорит о том, что причина действительно серьезная, поскольку его жене пришлось вылететь в Нью-Йорк.
Кларисса ужасно удручена, а я не могу даже утешать ее, приходится делать вид, будто я верю, что все дело просто в упадке сил, который часто бывает у нее с приходом зимы. Как-то я даже спросил ее, не слышала ли она чего-нибудь о Занделе, потому что знаю: иногда поговорить о своих переживаниях полезно, это приносит облегчение.
— А я откуда знаю? — ответила Кларисса. — Мне известно столько же, сколько и тебе, то есть ничего.
Объектом раздражения Клариссы был не я, просто она обижена долгим отсутствием самого Занделя и известий от него. Более чем обиженным и возмущенным его молчанием был и я, так как знал: Зандель и его жена, сидя в Нью-Йорке, скрывают от нас правду, и опасался, что в любую минуту может случиться что-то непоправимое. Ну что, например? Чтобы не переживать заранее, я постарался отбросить всякую мысль о Занделе, так как любая мысль о нем связывалась у меня с его болезнью и смертью. Бедный Зандель, я так и видел его лежащим в гробу с лицом восковой бледности и скрещенными на груди руками. Какое мрачное воображение! И еще я видел во сне Клариссу, которая горько плакала, провожая его на кладбище Верано.