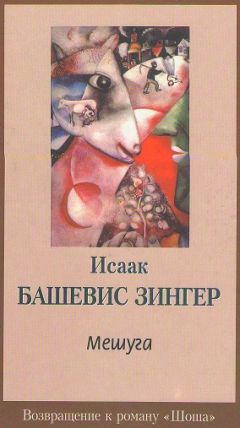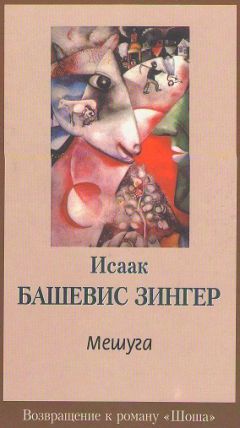Я спросил, чем она занимается у себя дома в Кротоне-на-Гудзоне, и она ответила:
— Схожу с ума. Лесли молчит целыми днями, а то и неделями, общается только с Биби. Она не ходит в школу — он сам ее учит. Мы давно уже не живем как муж с женой. Книги стали для меня всем. Когда попадается книга, которая что-то говорит моей душе, это великое событие. Вот почему…
— А кто ведет хозяйство?
— По сути дела, никто. У нас есть сосед. Когда-то он был фермером. Он живет один, без семьи. Он покупает нам еду, а иногда и готовит. Простой человек, но тоже философ в своем роде. Он, кстати, еще и наш шофер. Лесли больше не может водить. Наш дом стоит на холме, и ужасно скользко, не только зимой, но всегда, когда дождь.
Моя гостья умолкла. Я уже привык, что многие из тех, кто писал или приходил ко мне, чудаки, неприкаянные, потерянные души. Элизабет Абигель немного походила на мою сестру. Раз она внучка клендевского раввина, она вполне могла быть моей дальней родственницей. Клендев — недалеко от тех мест, где жили поколения моих предков.
Я спросил:
— Почему Биби живет с отцом, а не с матерью?
— Ее мать покончила с собой.
Зазвонил телефон, и до меня вновь донеслось уже знакомое меканье и покашливание. Я сразу же позвал Элизабет, которая подошла медленно и неохотно, всем своим видом показывая, что ей заранее известно все, что должно произойти. Я услышал, как она сообщила мужу, где лежат капли, и резким тоном попросила больше ее не беспокоить. В основном говорил он, а она лишь отделывалась редкими короткими фразами, вроде:
— Что? Ну, нет.
Наконец она раздраженно бросила: «Понятия не имею», — и вернулась в комнату.
— Это вошло у них в привычку. Стоит мне куда-нибудь уйти — у Биби спазмы, а ее отец начинает названивать и трепать мне нервы. Он никогда не может найти капли, которые — кстати сказать — совершенно не помогают. Более того, он сам провоцирует приступы. На этот раз я даже не сказала ему, куда иду, но он подслушал. Я хотела задать вам несколько вопросов и вот из-за него все забыла. Да, скажите мне ради Бога, где находится Клендев? Я не могу найти его на карте.
— Это местечко в районе Люблина.
— Вы когда-нибудь там бывали?
— Бывал. Когда я ушел из дома, один человек рекомендовал меня в Клендев школьным учителем. Я дал один-единственный урок, после чего администрация школы и я, не сговариваясь, пришли к заключению, что учитель я никакой. На следующий день я уехал.
— Когда это происходило?
— В двадцатые годы.
— Значит, моего деда там уже не было. Он умер в тринадцатом году.
Хотя то, что рассказывала моя гостья, в общем-то не очень меня интересовало, я слушал внимательно. Было трудно поверить, что всего одно поколение отделяет ее от клендевского раввина, его окружения, его стиля жизни. Ее лицо таинственным образом приобрело англосаксонские черты, это была уже ее культура. Но проглядывали в ней и другие страны, другие широты. А может, Лысенко все-таки прав?
Часы показали половину первого, и я пригласил гостью спуститься со мной пообедать. Оказалось, что в это время она не ест. Самое большее, может выпить чашку чаю. Впрочем, если я хочу есть, она готова пойти со мной. В конце концов мы перешли на кухню, и я заварил чай. Я поставил на стол блюдо с печеньем для нее и бутерброды с сыром для себя. Мы уселись за стол друг против друга, как супружеская чета. По столу прополз таракан, но ни я, ни Элизабет не стали его тревожить. Тараканы, живущие в моей квартире, вероятно, знали, что я вегетарианец и не питаю ненависти к их тараканьему роду, который на сотни миллионов лет старше человеческого и, должно быть, переживет его. Элизабет пила крепкий чай с молоком, а я слабый — с лимоном. Отхлебывая чай, я держал кусочек сахара между зубами — как было принято в Билгорае и Клендеве. Поскольку Элизабет так и не притронулась к печенью, постепенно я съел все сам. Между нами воцарилась атмосфера близости, не требующая уже никаких предисловий.
Неожиданно для самого себя я спросил:
— Когда вы перестали с ним спать?
Элизабет начала краснеть, но, залив пол-лица, краска отступила.
— Я вам сейчас кое-что скажу, хотя вы, наверное, не поверите.
— Я поверю каждому вашему слову.
— В физическом смысле я девственница.
Сказала — и словно сама удивилась своим словам.
Чтобы показать, что я не особенно потрясен этим сообщением, я бросил почти небрежно:
— Я полагал, что эта порода давно вымерла.
— Всегда есть последний из могикан.
— Вы никогда не обращались по этому поводу к врачу?
— Никогда.
— А к психоаналитику?
— Ни я, ни Лесли им не верим.
— А разве вам не нужен мужчина? — спросил я, сам поражаясь собственной наглости.
Она взяла чашку и сделала глоток.
— Еще как нужен, но я до сих пор не встретила человека, с которым бы мне захотелось быть вместе. Так было до моего знакомства с Лесли, так все и осталось. Когда мы познакомились, я решила, что Лесли мужчина для меня, но он сказал, что нужно подождать до свадьбы. Мне это показалось глупым, но мы ждали. После свадьбы мы сделали несколько попыток, но ничего не вышло. Иногда я думаю, что это клендевский раввин не допускает нашей близости, ведь Лесли — не еврей. Кончилось тем, что мы стали испытывать ко всему этому глубокое отвращение.
— Вы оба аскеты, — сказал я.
— Вы думаете? Не знаю. В мечтах я пылкая любовница. Я читала Фрейда, Юнга, Штекеля, но они не способны мне помочь. Странно, что я с вами так откровенна. Знаете, я никогда в жизни не посылала писем писателю. Я вообще терпеть не могу писать письма. Мне даже трудно написать собственному отцу. И вдруг я пишу вам, потом звоню. Как будто один из ваших дибуков вселился в меня. Теперь, когда вы словно вдохнули в меня новую жизнь, я вам еще кое-что скажу. С тех пор как я начала читать ваши книги, вы стали моим любовником. Вы вытеснили всех остальных.
Элизабет отхлебнула чаю, улыбнулась и добавила:
— Не бойтесь. Я пришла не за этим.
Я почувствовал, что в горле у меня пересохло, мне потребовалось усилие, чтобы справиться с голосом:
— Расскажите мне о ваших фантазиях.
— Ну, мы проводим время вместе, путешествуем. Например, в Польше по тем местечкам, которые вы описываете. Поразительно, но ваш голос в моих грезах был точно таким же, как сейчас, — как это может быть? Даже ваш акцент точно такой же. Совершенно необъяснимо.
— Любовь вообще необъяснима, — сказал я, и мне почему-то стало неловко за свой поучительный тон.
Элизабет склонила голову набок и некоторое время обдумывала мое высказывание.
— Иногда, мечтая вот так, я засыпаю, и мои фантазии превращаются в сны. Я вижу шумные города. Слышу, как говорят на идише, и, хотя на самом деле я не знаю языка, во сне я понимаю каждое слово. Если бы мне не было доподлинно известно, что все там давно изменилось, я бы поехала, чтобы проверить, насколько мои сны соответствуют действительности.
— Теперь уже не соответствуют.
— Мать часто рассказывала мне о своем отце, раввине. Она приехала в Америку со своей матерью, моей бабушкой, когда ей было восемь лет. Дед в возрасте семидесяти пяти лет женился во второй раз. Бабушке было восемнадцать лет. От этого брака родилась моя мать. Через шесть лет дедушка умер. Он оставил много комментариев к Библии. Но вся семья погибла во время оккупации, рукописи сгорели. Бабушка сохранила всего одну маленькую книжечку на иврите. Дед в свое время успел ее опубликовать. Я захватила ее с собой, она у меня в сумочке в прихожей. Хотите взглянуть?
— Конечно.
— Позвольте, я вымою посуду. Посидите здесь. Сейчас я принесу книжку, и, пока я буду мыть посуду, вы сможете ее просмотреть.
Я остался за столом, и Элизабет принесла мне тоненькую книжечку, которая называлась «Протест Мардохея». На титульном листе автор поместил свою генеалогию, и, изучив ее, я увидел, что у нас с моей гостьей действительно есть общие предки: раввин Моисей Ишерль и автор книги «Открывающий глубины». Книжечка клендвеского раввина была памфлетом, направленным против радзинского раввина реба Гершона Еноха, который полагал, что нашел в Средиземном море брюхоногого моллюска, чья секреция использовалась в древнем Израиле для окрашивания в синий цвет кистей на талесах, хотя традиционно считалось, что этот моллюск сделался недоступным для людей после разрушения Храма и будет обретен вновь лишь с приходом Мессии. Реб Гершон Енох, презрев многочисленные протесты других раввинов, распорядился, чтобы его последователи носили талесы с синими кистями. Между раввинами разгорелся жесточайший спор. Дедушка Элизабет называл Гершона Еноха «предателем Израиля, отступником, посланцем Сатаны, Лилит, Асмодея и всего злокозненного воинства». Он предупреждал, что грех ношения этих фальшивых талесов может повлечь за собой страшную кару Божию. Страницы «Протеста Мардохея» пожелтели и высохли настолько, что их края крошились у меня под пальцами.