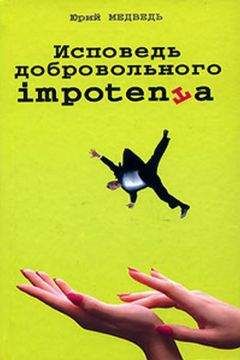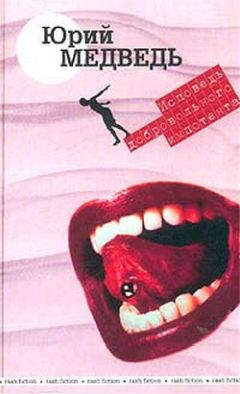Сокурсницы стояли в глубине комнаты за завесой из сигаретного дыма.
Оля с Леной, похоже, появились на этот свет одновременно и из одной утробы. Миниатюрные, с большими, слегка перекошенными ртами и крупными носами. Лена чуть стройнее, Оля с грудью побольше.
Вероника заметно отличалась от двойняшек: высокая, с длинными мощными ногами, плечи узковаты и сутулые, от чего грудь казалась обвислой. Щербатое лицо походило на разбитую и затем неточно склеенную вазу. И огромные глаза.
Стоя в ряд, подружки смотрелись как фасад нижней челюсти оскалившейся собаки. Я стушевался. Я видел знакомый силуэт сквозь дымовую завесу и ощущал страх, мне казалось, что эта муть уже никогда не исчезнет, а наоборот будет сгущаться, до тех пор пока мы не потеряемся в ней навсегда.
Под окнами проверещал мелодичный автомобильный гудок.
— О, наш папа — шерше ля фам! — воскликнули одновременно Оля с Леной.
— Ну, наконец-то, — лениво произнесла Вероника и прошлась на своих заметных ногах. — А то я уже думала, не дождусь этого фа-фа.
— Бабоньки, а меня уже шерше, — сказала Маша, подошла, взяла меня под руку и прильнула к плечу.
Она была неважной актрисой, потому что все ощутили, как ей не хочется оставаться здесь со мной. Но, возможно, она была гениальной комедианткой, потому что, прочувствовав это острее, чем остальные, я замотал головой, замычал и выпалил:
— Нет, поезжай! Мне все равно надо идти оформляться в гостиницу. Комендант предупредил, что только до десяти часов.
— Богдан Степаныч уже предупредили, — сказала Оля Лене.
— Ну так ебтыть, — ответила Лена Оле.
И все захохотали.
— Ладно, бери своего батыра, не помешает, — сказала Оля и пошла к двери.
— Успеете потрахаться, — добавила, проходя мимо, Лена.
Вероника вышла молча, она знала, что я обернусь, чтобы еще раз глянуть на ее грандиозные ляжки.
— Слушай, я все придумала, — заговорила Маша, когда вероникины ноги исчезли из комнаты. — Мы сейчас поедем с девчонками. Ленкин муж вернулся из кругосветки и привез из Америки обалденную видеосистему, что-то навороченное. Посмотрим, а потом, когда Богдан с проверкой пройдет, вернемся. Через окно. У меня один знакомый на первом этаже живет.
— Ты все здорово придумала, — сказал я.
Она рассмеялась, но как-то нервно в пол, отстранилась, метнулась к тумбочке, схватила сумочку и вытолкала меня за дверь. Пока она возилась с замком, я вышел на лестничную площадку и стал спускаться вниз. Между пятым и четвертым этажами обосновались двое. Он и она. Оба в тренировочных костюмах. Он сидел на подоконнике, она — у него на коленях. Они целовались. Как в кино. С закрытыми глазами. В засос. Запустив языки друг другу в пасть. Рядом, в банке из-под кофе, догорали их окурки. Я прошел мимо. Он поглаживал ее юные ягодицы, бедра. На пальцах его рук поблескивали рокерские перстни черепа, черепа, черепа. Штук десять черепов паслось на ее теле. Я стал спускаться ниже. На каждом этаже на подоконнике имелась банка-пепельница. Место для курения и поцелуев. Мне стало как-то гнусно, скорее всего, меня посетила одна из разновидностей тоски. Я был чужой на этой лестнице, среди банок-пепельниц, черепов, ягодиц.
Когда я вышел в холл, Маша была уже там.
— У нас лифт есть, между прочим.
— Между прочим, все мы дрочим, — процитировал я Нобелевского лауреата, и, похоже, не к месту.
— Что-что? — не поняла Маша.
— Слушай, я не поеду…
— Не ломайся, — оборвала она, подхватила меня под руку и повлекла к проходной. — Я покажу тебе сегодня город в белой ночи. Это здорово. Ты просто немного ошалел с непривычки.
— Молодой человек, паспорт! — послышалось позади.
Я обернулся. Из окошка будки вахтера торчал мой документ. Пришлось вернуться.
— Эта, что ли, твоя девочка? — шепотом спросила тетка-вахтер.
— Надеюсь, — ответил я и вышел в надвигающуюся белую ночь, первую в моей жизни.
Под шутки-прибаутки сестричек, писки и взвизги подружек мы разместились на заднем сиденье «иномарки». За рулем сидел коренастый мужчина с холеной бородкой и болезненными глазами.
— Папа, это машин друг. Он сегодня прилетел из Башкирии, — сказала с переднего сиденья Лена.
— Но он тоже не башкир, — уточнила Оля с заднего.
— И их дети никогда не будут башкирами, — вставила Вероника.
— В Башкирии, вообще, не бывает башкир, — внесла свою лепту Маша.
И сокурсницы рассмеялись.
— Владимир Иванович, — отозвался папуля и, не оглядываясь, предложил мне свою пять.
Я дотянулся и вложил в теплую и рыхлую ладонь свою руку.
— Игорь.
Когда рукопожатие распалось, Владимир Иванович запустил двигатель и резво тронулся с места.
Мы ехали по улицам большого незнакомого города, но я ничего не видел. Маша сидела у меня на коленях. Я ощущал ее тепло. Мне хотелось обнять ее, но стоило лишь прикоснуться, как в памяти всплывали стальные черепа, ползающие по женским бедрам. «Да что же это такое? — думал я. — Может, это отсутствие почки сказывается?»
Наконец мы проехали сквозь темную арку и остановились в замкнутом дворе. Все выгрузились из машины.
— В этом доме Пушкин жил, — сказала Маша.
— Ага, еще до восстания декабристов, а сейчас в его квартире директор рынка прописан, — продолжила Оля.
Гурьбой мы поднялись на второй этаж и вошли в высокие двухстворчатые двери. Квартира была огромной, всюду сновали какие-то люди. Буквально через пару минут я потерялся среди чужаков. Еще через минут пять я понял, что квартира двухэтажная. Наверх вела крутая деревянная лестница. По ней спускались и поднимались яркие девицы и крепкие ребята. Наверное, это были матросы, вернувшиеся из кругосветки. Повидав мир, миновав опасности и прикупив товар, они чувствовали себя уверенно и надменно. Чтобы не выглядеть потерянным, я примостился под лестницей и уставился на гигантскую маску из почти черного дерева. Сначала я просто таращился на нее, думая о том, как же мне вести себя среди новых людей, но постепенно эта странная физиономия перетянула на себя все мое внимание. Без сомнений, маску вырезал настоящий дикарь. Его не интересовали ни пропорции, ни симметрия, ни точность линий. Он был весь во власти чувств. Со стены мне в лицо смотрели мольба, проклятие и ужас.
— Ты чего здесь спрятался? — послышался позади голос Маши.
Я обернулся. На Маше были темные очки с широкими прозрачными дужками, на одной покачивался золотистый ярлычок.
— Ну как?
— На уши не давит?
— Чего-чего?
Подошла Оля:
— Это мужские, пусть лучше он померит, — сказала она Маше.
— Можно я лучше это примерю, — повернулся я к маске.
— Потом будешь чудить, сначала папа с тобой выпить хочет. Ты водку пьешь?
— Ну… — замялся я и посмотрел на Машу.
Она вертелась перед зеркалом, разглядывая себя то в очках, то без них.
— Пьет, пьет, он и водку, и спирт, и самогон пьет, — сказала Маша, срывая ярлык с дужки. — Я хочу эти мужские очки. Деньги чуть позже верну, ладно?
— Ладно, пошлите к столу, — усмехнулась Ольга.
Стол был круглый, массивный. Стулья тяжелые, с причудливой резьбой и высокими спинками. Владимир Иванович наливал водку из графина в большие фужеры, чокался со мной, опрокидывал водку в рот и шумно закусывал. Кроме нас за столом больше никого не было, Маша и Оля, выпив по фужеру шампанского, ушли смотреть домашний кинотеатр фирмы SONY. Из зала, куда они удалились, доносились тревожная музыка, звериный рев, человеческие вопли и машин смех.
— У меня близкий друг был родом из Башкирии, мы работали вместе, заговорил Владимир Иванович, в очередной раз наполняя наши фужеры. — Он туда каждое лето в отпуск ездил, мать навестить. Всегда мне кумыс привозил. Любишь кумыс?
— Нет, мне больше медовуха нравится.
— Медовуха тоже полезная вещь, но кумыс просто уникальный напиток. Пашка мне настоящий, домашний кумыс привозил, малокровие лечить. Можно сказать, из могилы поднял. Да… Поднял, а сам недавно ушел. Выпьем, подытожил хозяин и опрокинул свой фужер.
Я опростал свой.
Закусили.
— Возможно, кумыс, действительно, полезней медовухи, — согласился я и добавил: — Я что-то не видел у кобылы вымени.
— Потому что у нее не вымя, а сосцы, почти как у женщины.
— Вон оно что…
— Лошадь самое чистое животное, в плане физиологии. И энергетика у нее положительная, — заверил Владимир Иванович и, оглянувшись, добавил: — в отличие от женщин.
— Наверное, потому что женщина не животное, — предположил я.
— Женщина — это зверь, парень. Поймать-то ее можно, а вот приручить нет.
Владимир Иванович оглядел стол, вытер салфеткой губы, лицо, шею, бросил промокшую бумажку в тарелку и встал:
— Все, я на покой, — повернулся и поплелся в глубь квартиры.
Вскоре он появился на втором этаже. Лицо у него было какое-то обомлевшее и глупое. Мне стало жаль бедолагу.