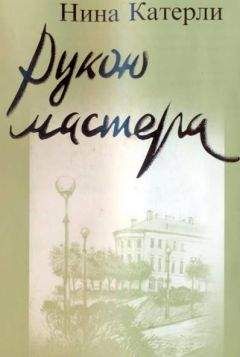…Что было дальше? Пил пиво у ларька, минут двадцать в очереди отстоял, а куда торопиться? Купил хлеба в булочной без продавца. Вот и все дела. Вечером еще посмотрел газету, включил телевизор — показывали какую-то симфонию, а по второй программе — постановку, кончалась уже. Павел Ильич телевизор выключил и решил лечь спать, по ящику этому редко что хорошее бывает, кроме программы «Время» и футбол-хоккея. Анна Ивановна, та еще всегда глядела «В мире животных» — детские игрушки.
Так и прошло воскресенье. Завтра — первый день отпуска.
…Что он вчера за весь день сказал-то? «Один до Парголова и обратно» да еще — «Одну большую». Это когда пиво пил.
Зато в прошлый отпуск болтовни было сколько хочешь. По графику Кравцов гулял в феврале, взял в завкоме бесплатную путевку на две недели в дом отдыха в Зеленогорск, жил там в двухместной палате с одним пенсионером, который мог рассуждать, рта не закрывая, с утра до самой ночи, и каждый раз, о чем бы ни начал, первые его слова были «моя полемика такая».
— Моя полемика такая, — говорил он за завтраком подавальщице, наливая себе из чуть теплого чайника кофе, — я всегда предпочитаю знать, что я ем и что я пью, чтобы иметь возможность своевременно обратиться к врачу. Вот я вас, девушка, и спрашиваю: как называется этот напиток — отвар из желудей или бульон от мытья посуды?
Подавальщица дергала плечом и отходила, нервно толкая вдоль столов тележку, заставленную тарелками с кашей, а Павел Ильич справедливости ради возражал этому… постой, да как же его звали?., что за бесплатно можно и желудевого кофе попить. Но старик упрямо талдычил свое:
— Моя полемика такая: говорю, что думаю, не могу молчать, если вижу безобразие, а тут — безобразие, воруют кому не лень, ты посмотри, какие они сумки вечером домой тащат! Все — хоть повар, хоть судомойка!
После завтрака они с Кравцовым обязательно шли в вестибюль и выстаивали длинную очередь за газетами. Павел Ильич, как дома выписывал, так и тут всегда покупал «Ленинградскую правду». А Полемика набирал целый ворох — и «Известия», и «Неделю», если была, а больше всего предпочитал «Литературку».
— Правильно пишут, — внушал он Кравцову вечером после ужина, — среду надо оберегать. Вот, — он тыкал пальцем в газетный лист, — опять, смотри, отравили реку, сгубили рыбу. И что? Начальству — выговор, а завод заплатил штраф. Государство, значит, наказали. Нет, моя полемика такая: за безобразие бить рублем. Каждого по личному карману, не по государственному. Чтобы заинтересованность была и ответственность. Чтобы болели за дело, а не так. Моя полемика…
Кравцов соглашался с ним уже сквозь сон, но потом отключался, а старик еще долго небось проводил свою политинформацию. Он вообще-то ничего, неглупый был старик, хотя и болтун… Да как же, в самом деле, его звали, черт возьми? Через справочную свободно можно было бы найти, поговорили бы…
Старик… Кравцов поерзал, перевернул подушку, ставшую какой-то жилистой, и подумал, что и сам-то он, по правде, старик — пятьдесят девять, через год можно на пенсию, только кто его пустит из цеха, да он и сам не пойдет, что одному дома делать? Анна Ивановна, покойница, та вот нисколько не скучала на пенсии, выдумывала себе всякие дела, иногда довольно глупые: тогда, прошлый год, когда собирала его в Зеленогорск, целыми днями бегала по магазинам. И выбегала, дурища: рубашка финская, нейлоновая, галстук — польский, кофта шерстяная, называется «полувер» — вообще черт-те чья. Вещи, безусловно, хорошие, как говорят, даже шикарные, но ему-то они на что? Два раза надеть в доме отдыха, в кино…
Кравцов тогда отругал жену, что говорить, крепко отругал, до слез. Она все повторяла:
— Я же — чтоб ты не хуже людей, там ведь всякие будут, и инженера, а ты еще интересный, молодой…
Заладила: «интересный» да «молодой», все тридцать лет она ему это пела, и, честно сказать, Кравцов ей верил, хоть и надоели ему эти похвалы, а все же и сам привык считать, что не хуже других, интересный там не интересный, а видный мужчина, и Анне Ивановне с замужеством, конечно, повезло — сама-то красавицей никогда не выглядела, даже одеться прилично и то не умела.
Вот уже три месяца никто к нему не пристает с такими разговорами, и как раз сегодня, то есть это уже вчера, утром, когда брился, посмотрел в зеркало и подумал: а ведь старый мужик, ну, пускай не старый, а все равно пожилой, жизнь не обманешь — раз положено через год на пенсию, значит, есть за что. Вон и волосы стали редкие, щеки в красных прожилках…
…Странная она все-таки была женщина. Иной раз могла час сидеть и смотреть, как Кравцов, к примеру, читает газету. Поглядишь на нее — отвернется, отведешь глаза — опять. Павла Ильича такое поведение всегда злило. Спрашивал не раз: «Ты чего?» — а она: «Ничего, просто так. Думаю». Думает! Что она там может думать? А один раз выпалила: «Это, говорит, я тобой любуюсь». Ну что тут скажешь! «Любуюсь»! Ненормальность и все… Нет, она неплохая была женщина, а это, глупости разные, это, наверное, смолоду, от воспитания, да и наследственность, как говорят, играет большую роль — у нее мать из поповской семьи…
…Вот с этими деревьями она как раз тогда и выдумала — что станет, мол, деревом после смерти, — когда приезжала навестить Кравцова в Зеленогорск. Приехала, натащила продуктов, как будто он тут на голодном острове, хотел выругать, да решил не портить настроение, повел показывать территорию. Погода стояла морозная, деревья все заиндевели, и вот, помнится, на берегу залива — береза… может, и не береза, короче, какое-то дерево. Ветки в инее, блестят, Анна Ивановна встала перед этой березой, подняла голову, руки на животе сложила и молчит. А потом и высказалась.
День был тогда голубой и белый…
А сегодня ночь — ну ни черта не двигалась! Окно он закрыл зря: в комнате стало душно. Сколько всего успел вспомнить и передумать, а посмотрел на будильник — только сорок минут прошло. На улице, правда, как будто стемнело.
…Он ведь ей тогда так прямо и отрезал: «Ненормальная ты, Анна, жизнь отжила, а дура дурой»… Может, и не надо было ее там хоронить, на этом квадратно-гнездовом кладбище? А с другой стороны, что он мог сделать? Кто его спросил? Он ведь в больнице тогда лежал.
Вовсе нечем сделалось дышать, и Павел Ильич поднялся. Встал, прошел босиком по полу, подумал, что надо бы вымыть и натереть, пора приучаться — вдовец, распахнул настежь окно и отметил, что стекла тоже грязные. Можно бы, конечно, попросить Антонину, соседку, помыла бы за рубль, да с ней только свяжись. Из-за этой скверной бабы несчастную Анну Ивановну позапрошлый год чуть в товарищеский суд не потянули. А дело было такое: Антонина тогда только к ним переехала, по обмену. Это у нее уже третий обмен был, скандалила везде с жильцами, даже, говорят, в милицию на нее жалоба была. С Анной Ивановной она начала собачиться с первого дня. Из-за всего — из-за уборки, из-за плиты, из-за раковины. А ругаться с Анной Ивановной радости никакой: подожмет губы и молчит, так Антонина прямо из себя выходила: «Считаешь, — орет, — ниже достоинства мне отвечать? Культурную строишь?» — и разное другое. А потом ей, видать, это надоело, так она перелаялась с соседкой из квартиры напротив, та была баба с зубами, и у них это дело быстрым ходом до драки дошло. Короче, в один, как говорят, прекрасный день — Кравцов как раз был дома после ночной смены — заявилась к ним целая делегация активисток из домоуправления с коллективным письмом, чтобы принять к Антонине меры вплоть до выселения. Под письмом стояло подписей уже штук пятьдесят, и Кравцов, само собой, без слова тоже расписался, даже читать не стал, что там написано. А Анна Ивановна, тихоня, взяла письмо в руки, изучала его чуть ли не полчаса, подписи зачем-то рассматривала, а потом ни с того ни с сего как примется рвать на клочки. Активистки и «мама» сказать не успели, как она все изорвала и обрывки кинула в мусоропровод — дело было на кухне. Кравцов даже обалдел, а Сягаева, пенсионерка из домового комитета, говорит:
— Это просто хулиганство! Причем немотивированное. И неуважение к людям: пятьдесят человек поставили свои подписи, а вы рвете. Вы что же, считаете себя умней других?
Анна Ивановна ничего ей не ответила, поджала губы и — в комнату, пришлось Кравцову за нее отдуваться, но это было уже без толку — активистки ушли, грохнув дверью, и пообещали, что напишут на Анну Ивановну в товарищеский суд за антиобщественное поведение.
Когда, заперев за ними, Кравцов отправился к жене и, стараясь сдерживаться, по возможности спокойно спросил, не сбрендила ли она окончательно, Анна Ивановна сказала, что обязана была уничтожить это заявление, потому что у Антонины — уже третий обмен и ее в самом деле могли бы выселить, что характер у нее, конечно, хуже некуда, но это, дескать, жизнь виновата, так как у Антонины не было никогда семьи и личного счастья, что злом зла не переломишь, а товарищеского суда она, Анна Ивановна, не боится. Вообще, откуда что взялось: произнесла целую речь, и Кравцов от нее отступился, ввязываться в склоку он тоже не больно хотел. С Антониной тогда так и обошлось — видно, не стали активистки собирать подписи по второму разу, но про выходку Анны Ивановны ей от кого-то стало известно.