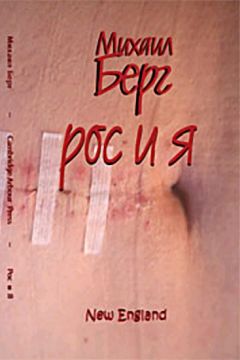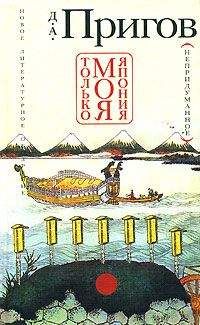Проснувшись в понедельник, 21 января, с тяжелой головой, Петр Сигизмундович Клейнмихель по привычке протянул руку, чтобы звонком дать знать, что он проснулся (и помня, что через полчаса машина повезет его завтракать в известный шоферу дом на Большой Морской, где его ждали), и тут же, с гнетущим чувством повернув голову, увидел на подносе рядом с постелью конверт с австрийским штемпелем — и остановил руку на полпути. Двенадцать или тринадцать неряшливых строк письма, на которое он наткнулся вчера ночью, извещали его о кончине жены, баронессы Клейнмихель, последовавшей полторы недели тому назад в больнице для бедных на окраине австрийской столицы. Неизвестный Петру Сигизмундовичу клерк, по фамилии Крус или Фрус, извещал его, что несчастная женщина, очевидно, по ошибке приняла чрезмерную дозу веронала и скончалась на рассвете, так и не придя в себя после операции. Петр Сигизмундович уронил руку на простыню и, как и вчера ночью, когда мятый листок впервые преподнес ему приз в виде короткого известия о наступившей свободе, ощутил тошноту, слабость в ногах, головокружение, которые с физиологической дотошностью маскировали эйфорию и невозможность сразу привыкнуть к тому, что баронессы Клейнмихель, которая была на двадцать семь лет моложе мужа, больше нет.
Зима была в самом разгаре. Синие сугробы очерчивали тротуары, и на поворотах его белый «опель» заносило, после чего Петр Сигизмундович, сидевший на заднем сиденье, похлопывал замшевой перчаткой по плечу шофера, предупреждая того об осторожности. Шофер крутил ручку приемника, настраиваясь на нужную волну, и искоса поглядывал на него, но барон не проявил недовольства, а только откинулся на сиденье и закрыл глаза. Петр Сигизмундович был стар и терпелив. Его ждали в департаменте внутренних дел, но он предупредил, что будет только к вечеру, и теперь спешил на дачу в Териоки, собираясь вернуться в город засветло. Безопасность государя лежала лично на нем, но и на Санглена можно положиться, особенно сейчас, когда последние заговорщики выужены, кажется, без остатка, а если и не все, то вряд ли успеют очухаться после вчерашних арестов. Кроме того, никто не отменял его права на личную жизнь. Ситуация была безотлагательна. Ему нужно было проверить одну идею, ключ к которой таился в закрытом на замок нижнем ящике письменного стола его дачного кабинета. Машина вырвалась на простор, настолько плотно сидя в продавленной снежной колее, что иногда, осаживаясь на амортизаторах, сухо царапала заскорузлый наст брюхом. Петр Сигизмундович не был сладострастен и, расправляясь с врагами, никогда не испытывал облегчения, в глубине души уверенный, что зло не искоренить злом и неизбежность есть следствие всегда рачительного рока. Его положение было слишком устойчиво, и он мог позволить себе посвятить подчиненных в некоторые из своих соображений, тем более что он и не думал походить на кого-либо, кроме себя. Жить оставалось слишком мало, не ему быть мстительным. Его гипотеза будущего была чересчур ясной, чтобы ставить на неосуществимое. Он не выносил только одного — обмана. Он не лицемерил сам, не лукавил, и сомнительные обстоятельства казались ему весьма тесным коридором, пройти которым ему не представлялось возможным. Не опускать забрала перед любой неожиданностью, чтобы встретить ее с открытым лицом, было его девизом. Со своей будущей женой барон Клейнмихель познакомился в Москве на ярмарке невест, куда та была привезена матерью. Его не смутило облако слухов, сопровождавшее ее вплоть до стремительной женитьбы (будто с ее репутацией не все в порядке), ибо имя ее связывалось с двумя любовными историями, приключившимися с ней в деревне, и с одной дуэлью со смертельным исходом, косвенной виновницей которой она считалась. Она была влюблена в сказочно разбогатевшего после смерти дядюшки заезжего молодца, мизантропа и донжуана, от скуки поселившегося недалеко от их имения и заприятельствовавшего с местным поэтом, которого-то впоследствии он и убил на дуэли, ради шутки решив поухаживать за младшей сестрой будущей баронессы Клейнмихель, чем вызвал бешеную романтическую ревность недавнего друга. Клейнмихель был уже в чине статского, молодой государь к нему благоволил, он увидел ее у колонны, меж двух теток, в малиновой шляпке, тотчас влюбился, сделал предложение, на которое в скором времени получил милостивое, хотя и раздумчивое согласие, под аккомпанемент хрестоматийных вздохов; он был восходящей звездой и фаворитом, женитьба заставила замолчать сплетников, барон, на седьмом небе от счастья, несколько месяцев путал день с ночью, не выходя из спальни, и только через полгода узнал, что коварно обманут. Оказывается, молодец, выйдя в отставку перед тем, как заточить себя в деревне, хотя ему следовал новый чин и службу он оставил неожиданно для многих, после истории с дуэлью отправился в кругосветное путешествие, разочаровался и здесь, вернулся и, увидев баронессу Клейнмихель в новом ракурсе, тут лишь понял, чего лишился. Его соперничество с бароном было тайной только для последнего. Вновь они встретились в поезде, в котором молодая баронесса Клейнмихель возвращалась, навестив сестру, к мужу. У них начался роман. Соблазнитель, в отличие от барона, проникнутый тщеславием, обладал, сверх того, еще особенной гордостью, которая побуждала его признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие превосходства, быть может мнимого, но, однако, как известно, гипнотически привлекающего женщин. Несколько месяцев они прожили втроем. А затем баронесса, бросив малютку-сына, сбежала с совратителем сначала в Италию, где тот, оказавшись художником-дилетантом, делал наброски величественных развалин Колизея, а затем, пристрастившись к морфину, якобы помогавшему ей от жесточайшей мигрени (как последствия неудачного тайного аборта), была брошена им и, по слухам, пошла по рукам, опустившись впоследствии чуть ли не до приюта бродячих моряков. Клейнмихель держал уже в руках все ниточки, ведущие к раскрытию неудавшегося покушения заговорщиков на государя в Киеве, когда пришла весть о том, что его неверная жена бросилась в нью-йоркской подземке под колеса поезда: весть, оказавшаяся блефом; и смог-таки упечь этих новоявленных республиканцев за решетку.
— Не надо так негодовать, — говорил он своей тайной пассии, княгине Ольге, младшей сестре бывшей баронессы Клейнмихель, — ибо никаких падших женщин не существует, потому как падение подразумевает движение во времени, а его тоже нет. Бог дал, Бог взял. Не кажется ли вам, моя милочка, что наша жизнь безобразна уже потому, что слишком длинна, а возможно, даже бесконечна. Все-таки она не стихотворение и не здание. Ее невозможно построить, потому как отведенное под нее пространство не имеет строгих пределов, посему и законы, якобы ее определяющие, весьма условны, ибо неокончательны. Разве может рука доверять перилам, если они кончаются неожиданно, либо, наоборот, пунктиром пропадают в рассеянной бесконечности? Поэтому жизнь негармонична, некрасива и скучна, так как ожидание неизвестного весьма стеснительно. Вот почему, не найдя ничего более остроумного, жизнь аннигилирует самое себя, переходя в дряхлость, усталость, старость, неинтересную смерть. Теперь представьте обратное, что в жизни есть определенный, точный, всем одинаковый срок: 33 или 37, возможно, 47 лет, окончательная цифра большого значения не имеет. Каждый умирает в строго назначенный день, не существует болезней, убийств и самоубийств, ибо они бессмысленны. Жизнь тогда строга, целомудренна, всему есть свое место, каждый занимается своим делом. Не хмурьтесь, милочка, а представьте. Точно очерченные границы — панацея от всех бед и треволнений: бытие насыщенно, напряженно, аскетично и, прежде всего, гармонично. (Гармония — мать всех вещей. Люфт сведен к минимуму. Весьма стеснительная для многих свобода, которой нет употребления, ибо ничто так не обессиливает жизнь, как ощущение мнимой или явной свободы, которую никуда не приткнуть, так как она точно не определена, не выверена, не направлена, скучна, абстрактна, абсурдна.) А тут, какая чудесная могла бы быть жизнь! Каждый мог бы реализовать себя, превратить свою жизнь в кристалл! Как не воскликнуть: долой демократию, да здравствует монархия!
Лишь милой Ольге показывал Петр Сигизмундович стихи, которые писал в немногие минуты интимной пустоты. Задумываясь над поэзией, он как-то составил условную классификацию поэтов «по кругу». Одни поэты под углом 1–40 градусов пытаются исправлять мир, другие под углом 41–89 градусов воспроизводят его, третьи под углом 90–179 градусов украшают, и только четвертые под углом 180–360 градусов преображают, искажая его. Себя он относил к последним. Ему нравилось разглядывать карикатуры на себя в бульварных газетах, где его рисовали бездумным, узколобым служакой, душителем свободы и общественных интересов. «Я, — говорил он в тесном кругу, — посягнул на понятия, на исходные обобщения, чего до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума. Более основательную, чем та, отвлеченная, сделанная Кантом. Я усомнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием «здание». Может быть, «плечо» надо связывать с «четыре». Я делал это на практике, в поэзии, и так доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то, значит, разум не понимает мира». «Я, — говорил он в другой раз, — понял, чем отличаюсь от прошлых писателей, да и вообще людей. Те говорили: жизнь — мгновение в сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновение, даже в сравнении с мгновением». «При этом, — повторял он, — я не могу ссылаться на вдохновение, как другие, так как вдохновение не предохраняет от ошибок, как это думают обычно. Вернее, оно предохраняет только от частных ошибок, а общая ошибка произведения при нем как раз не видна, поэтому оно и дает возможность писать. Я всегда уже день спустя вижу, что написал не то и не так, как хотел. Да и можно ли вообще написать так, как хочешь?»