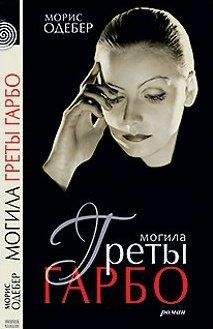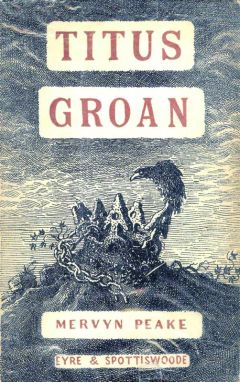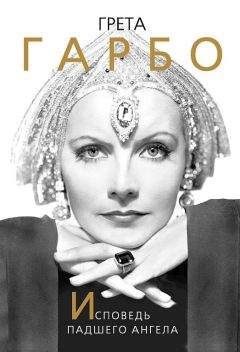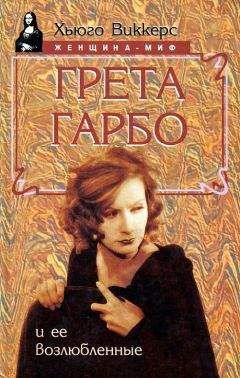— Ваша подруга не ест и молчит.
— Она такая. Она всегда пугается, когда незнакомые.
— А вы нет?
— А чего мне бояться?
— Того, чего боится она.
— Она всего боится.
— Хотите пить? Извините, здесь только один стакан.
— Не важно.
У нее была глуповатая улыбка, которая часто встречается у подростков. Она часто хихикала, склонив голову, и смотрела сквозь опущенные ресницы.
— Тогда я узнаю все ваши мысли. И, возможно, тоже испугаюсь.
Девочка подошла к скамейке.
— Можно сесть? — Она села рядом со мной, не дождавшись ответа. — Ну, — бросила девочка подруге, — что ты стоишь как столб? Садись и ешь.
Вторая тоже села. Ее не было видно за подругой, поэтому я мог разглядеть только белые носочки и пыльные туфли.
— Из чьей шерсти ваше пальто?
— Волчьей.
— Вы попали в аварию?
— Нет, я жду, когда придет владелец и заправит мне бак. Я еду в Стокгольм.
— Не может быть! Мы тоже из Стокгольма!
— А что вы здесь делаете?
Она снова прыснула, и ее подруга быстро поджала ноги, спрятав их под скамейку.
— Мы убежали!
Она пересказала мне их приключения, как они уехали утром из Стокгольма вместе с классом и преподавательницей, как ровными шеренгами прошествовали по Упсале, а потом, случайно оторвавшись на лестнице от группы, решили сбежать («я говорю „мы“, но на самом деле она просто составила мне компанию, одна я не решилась бы»), после чего они устроили пикник в парке, делились хлебом с лебедями на озере, слонялись перед витринами («утром нам ничего не показали, кроме поучительных вещей»), чуть-чуть заблудились и наконец заметили меня («так смешно было смотреть на вас издалека, как будто большой плюшевый медвежонок пьет пиво»).
— Ваша учительница и друзья, наверное, ищут вас.
— Нам все равно. Они не особенно нас любят, да и мы их тоже… Если б вы знали, как это раздражает. Раз вы едете в Стокгольм, может, вы нас отвезете?
Вторая девочка наклонилась вперед и очень низким голосом, совершенно не сочетавшимся с ее еще детским лицом, сказала «нет».
— А что такого, если месье не против, и если его это не затруднит?! Когда остальные приедут, мы уже будем ждать их на вокзале, и никто ничего не поймет Вы согласны?
— Если ваша подруга не против.
— А ей-то что за дело, какая ей разница! Это мы с вами решили.
Из-за угла улицы появился владелец заправки.
— Извините… Я отсутствовал больше, чем рассчитывал, но, как я погляжу, вы тут без меня не скучали. Итак, долгий путь вам предстоит?
Мы обменивались банальностями, пока он заполнял бак. Потом я посадил молчаливую девочку на сиденье сзади, а вторая, которой я предложил выбрать, устроилась рядом со мной. Долгое время она не нарушала молчание, и я приписал это боязливому восхищению, которое обычно охватывает пассажира, не привыкшего ездить в автомобиле: грохот мотора, дорожная тряска, свист ветра, деревья, проскальзывающие мимо и трепещущие на ветру. Однако ее молчание было недолгим:
— Никогда еще не ездила на скорости восемьдесят… Настоящая машина! — И сразу, без перехода: — Остановимся, когда захотите.
Сначала я не понял, что она имела в виду, и ответил, что останавливаться нет необходимости, что мы и без этого легко доедем, если, конечно, такая скорость их не беспокоит.
— Ну что вы, — сказала она, — не стоит так говорить. Я ведь знаю мужчин, это не в первый раз.
И тут я уловил смысл фразы. Бешеная ярость охватила меня и лишила на секунду дара речи. Дрожь, туман в глазах, напряжение мускулов, брань, застрявшая в горле. В первый раз я попал в ситуацию, которой старательно избегал все эти годы, и все из-за какой-то нахальной девчонки.
Я взял себя в руки. В чем я мог ее упрекнуть? Она изображала из себя искусительницу, и большинство мужчин, за исключением меня, распознали бы ее игру с первого взгляда. Наконец я сумел заговорить:
— Если я правильно понял, вы предлагаете заплатить за поездку?
— За все нужно платить, ничего плохого в этом нет. Я знаю мужчин, я же вам сказала.
— Возможно, вы знаете их не так хорошо, как предполагаете… Сколько вам лет?
— Пятнадцать.
— Так я и подумал.
— В чем дело? Вы боитесь?
— Причина неважна. Важно одно — сегодня транспорт бесплатный.
Она положила руку мне на бедро, я вздрогнул, руль выскользнул из рук, и машина резко дернулась в сторону.
— Может быть, вы и боитесь. Но не говорите мне, что вам не хочется. — Она неожиданно просунула руку мне между ног. — Нет! — закричала она. — Не может быть! — Ее рука пыталась что-то нащупать. — Что это значит? Скажите, что это значит?
Я был переполнен гневом и отчаянием, чувствовал себя униженным. Я вновь оказался на больничной койке, где проснулся счастливым от того, что жив (как же коротко было это счастье!), и обнаружил ранение, которому не было названия, я пытался отрицать его изо всех сил (не я, только не я!), но к чему? Деревья по-прежнему проносились мимо, а слезы все струились по моему лицу, струились бесконечно рядом с этой девочкой, вжавшейся в дверцу машины и засунувшей кулак себе в рот, чтобы хотя бы ненадолго сдержать рыдания.
Больше ни слова не было произнесено за всю поездку. В Стокгольме я высадил их перед вокзалом. С другой — с той, которая молчала, — позже мне предстояло встретиться.
4
Чтобы понять, что представляла собой Первая мировая война, стоит посмотреть фильмы о ней. Историки позже признают, до какой степени этот век жил в воображаемом мире, почти стерлась грань между реальностью и фантазией: уже не понять, откуда вымывает бушующие толпы — со стадиона в Нюрнберге или с фильма Сесила Б. Де Милля[40], коварные интриги — следствие паранойи советского прокурора или воображения сценариста? Только посмотрев «На западном фронте без перемен» Майлстоуна и «На плечо!»[41], я начал понимать, в какой войне участвовал.
Со времен Фабрицио из «Пармской обители», простодушно принявшего битву при Ватерлоо, известно, что нет роли хуже, чем сторонний наблюдатель трагедии, но я больше всего старался избежать опасности и не особенно следил за тем, как разворачиваются события и кто выигрывает в войне. Солдат против воли, я вел личное сражение не столько против мифического врага, которого не знал, сколько против тех, кто считали себя вправе подчинить мою волю собственным прихотям, то есть против высших чинов, а вскоре и против каждого в армии. И действительно, оказавшись по воле случая или по ошибке военной администрации, что было обычным делом, в части резервистов, я начал изображать из себя самого слабого, нуждающегося в опеке. Таким образом, я добровольно принял на себя роль неотесанного болвана, что вызывало язвительные насмешки со стороны других, но избавляло от опасных приключений; правда, в самом начале я умудрился искалечить воистину шальной пулей одного фельдфебеля. Итак, меня направили если не в мирную зону (таких не было), то в одну из самых безопасных.
Всем известна притча, придуманная стоиками: оракул предрек однажды одному человеку, что тот умрет от несчастного случая — крыша дома упадет ему на голову. Этот человек был безумцем, так как подумал, что сможет избежать приговора судьбы; он решил больше никогда не переступать порог ни одного дома и начал вести бродячую жизнь, безопасную, по его мнению. Но вот однажды в небе пролетал орел, который нес в когтях черепаху, та выскользнула из его лап и упала на голову бродяге. Так свершилось то, что и было предначертано: крыша дома убила человека — ведь черепаха носит панцирь, который служит ей домом.
Мне совсем не близки учения о предопределении, какую бы форму они ни принимали, я сослался на эту притчу только ради ироничности совпадения, описанного в ней. Каждый свободен делать собственный вывод.
Я занимался обычной работой (а именно, чистил отхожее место), когда мое внимание привлекло далекое жужжание. Я вышел во двор казармы, где уже все стояли, задрав головы. Вскоре пальцы потянулись в сторону черной точки, появившейся в ясном небе, все замерли. Аэроплан, как их тогда называли, был в то время редкой птицей — с начала войны мы видели только один. Машина медленно приближалась, послышались крики: друг или враг? Он пролетел над нами, провожаемый взглядами, и исчез, потом вернулся. На этот раз он летел ниже, и когда начал набирать высоту, от его фюзеляжа отделилась какая-то маленькая черная масса. Никто не двинулся, и я тоже, потому что никто не успел сообразить. Через несколько секунд бомба разорвалась рядом со мной, и я потерял сознание, не успев почувствовать боли.
Когда я пришел в себя, я оказался погруженным в бледный туман, населенный призраками. Некоторые звуки, наоборот, обладали пронзительной ясностью: скрежет колес телеги, чьи-то беспрерывные стоны, свист паровоза. У меня больше не было тела, лишь когда я поднял руки к лицу и дотронулся до него, ощущение ирреальности немного отступило.