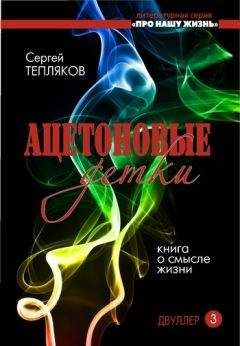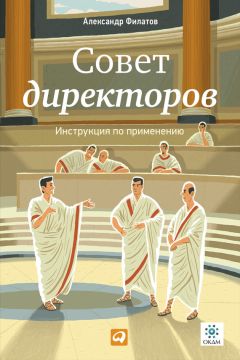Она спросила тут же листок и села писать ему ответ. Написала, что уже потеряла его и рада уже тому хотя бы, что он живой. Написала, что любит. «А что я еще могла написать? – думала она сейчас. – Попался и сиди? Ради меня мальчишка жизнь загубил»…
Она и тогда думала так же – загубил. Надеяться на то, что все это ошибка, не приходилось – уже одна только шуба доказывала, что все это чистая правда (шуба так и осталась у Николая – взять ее с собой Ирина не решилась).
В камеру ее отпустили после допроса, длившегося почти сутки. Она так и не признала ничего, и теперь сама не знала, хуже или лучше этим сделала себе. Первое, что поразило ее в камере – тяжелый дух, теснота, да еще то, что все женщины были в белье, а некоторые даже без лифчиков. Она поначалу не поняла, почему, но через какое-то время и ей захотелось скинуть с себя все лишнее – такая в камере стояла духота. Хоть и лето было, а в окнах стояли двойные рамы, а открыта была лишь маленькая форточка где-то в самом верху высокого окна. Под этой форточкой все время кто-нибудь стоял.
– За что? – спросила ее одна из женщин, совершенно седая.
Ирина смотрела на нее, не зная, как сказать, что ее обвиняют в убийстве собственного мужа – не выговаривалось это, это было не про нее.
– Ну? – поторопила ее женщина.
Ирина вдруг заплакала, так, будто решила отплакаться за все эти годы. Камера смотрела на нее, оцепенев: вроде и не истерика, а не останавливается. Когда рыдания Ирины перешли в тихий жалобный вой, все та же седая женщина подсела к ней и сказала:
– Полегчало? Сейчас мы тебе чаю сделаем, подбодрим. А вообще, ты, бабенка, силы береги. Слезами горю не поможешь и следователя не проймешь. Чего ж ты наделала-то?
Ирина подумала – сказать? Но с какого места начинать?
– Говорят, что я мужа убила… – проговорила она, вытирая слезы. Неожиданно для нее, этому почти никто не удивился.
– А что он – пил, бил? – уточнила, как об обыденном, седая женщина. Ирина кивнула.
– А ты своего чем? – вдруг подсела к столу вроде молодая, но с отечным лицом и мутными глазами, женщина. – Я вот своему всю голову топором разнесла!
При этих словах она захохотала. Ирина оторопело смотрела на нее.
– Надька, людей не пугай! – строго сказала седая женщина, и продолжила, обратившись к Ирине: – У нас полкамеры историй как твоя. Но плакала ты одна – некоторые бабы вон песни от радости поют: после такой жизни телу в тюрьме тяжело, а душе облегчение.
При этих словах Ирина прислушалась к себе. Нет, душе облегчения не было даже здесь. Она вздохнула. Седая женщина внимательно посмотрела на нее, но больше не спрашивала ничего.
Ирине отвели место на нарах. Чем-то она проняла женщин – ей определили лежать под форточкой, что, как сразу поняла Ирина, было большой привилегией. И теперь она лежала, вжатая между почти голых потных женских тел, и не могла уснуть от воспоминаний…
«Коля-Николай… Коля-Николай… – думала она, чувствуя, как слезы снова закипают в глазах. – Что же ты наделал?»..
Грядкина взяли еще в середине февраля – та женщина, с которой он оговаривал сделку, рассказала о ней своему начальнику, а тот возьми да удивись – зачем бы воинской части колеса для комбайнов, времена бартера вроде прошли. Начальник к тому же был из бывших кэгэбэшников – всех везде подозревал. Вот на свою бывшую работу он позвонил. Придя в торговавшую шинами фирму в следующий раз, Грядкин, сам о том не подозревая, обзавелся соглядатаем.
Ему еще дали получить товар – два КАМАЗа резины для комбайнов. Ничего не подозревавший Грядкин, решив на этом свернуть дело, ехал во главе этой колонны в нанятой машине. Пишущая машинка, мешок с печатями, больше двух миллионов рублей денег – все было при нем. Когда их остановили и начали проверять документы, он еще не волновался. А вот когда к нему подошел невысокий мужичок в гражданском и сказал: «Как же вы, Николай Викторович Грядкин, ухитрились работать в воинской части, которой уже пять лет как нету?», Грядкин почувствовал, что земля уходит у него из-под ног.
Весь остаток этого страшного дня он был как в тумане. Хотел даже сказать кому-то из сотрудников, что ему вообще-то некогда – к нему жена приедет. Потом опомнился. Голова включилась – он начала соображать, много ли известно сыщикам. Потребовал адвоката, сказал, что отказывается от дачи показаний. «Ну и ладно, – сказал один из сыщиков, – писанины меньше, а посадить мы тебя посадим и на основе имеющихся улик!».
Только поздним вечером его отвели, наконец, в камеру. Когда он вошел, в камере наступила тишина. Грядкин не сразу понял, в чем дело, потом оглядел себя и догадался: в своем пальто, шарфе, в брюках, которые еще не успели измяться, в лаковых туфлях он и правда смотрелся здесь как космический пришелец.
Камера выглядела как пещера. Пахло сыростью. Лампочка в камере горела тускло. Грядкин разглядел только, что камера маленькая, меньше даже той его первой комнатки. В камере был стол, скамейка и деревянный настил, на котором лежали люди.
– Добрый день… – сказал Грядкин, и вдруг одернул себя – «что я говорю?!».
– Извиняюсь… – поправился он. – Здравствуйте.
– Ну здравствуй, коли не шутишь… – ответил чей-то голос. – За что тебя?
– Да так… Ни за что… – Грядкин хоть и давно знал, на какой статье может погореть, все никак не мог привыкнуть, что вот, наконец, этот день настал – погорел. – 159-я статья УК РФ.
– Ого, мошенник! – изумился кто-то в темноте. – Крупный, или так, семечки у бабок воровал?
Грядкин промолчал, не зная, как ответить на этот вопрос – все же на допросе он своей вины еще не признал.
– Ну не хочешь – не говори… – сказал человек и сел на нарах, отчего его, наконец, стало видно в тусклом свете слабой электрической лампочки. Человек был толстенький и кругленький. Какие-то еще люди поднялись с нар, и даже из-под них, испугав Грядкина, вылез молодой парень.
– Вздрагиваешь? – усмехнулся кругленький человечек. – Да, в нашем пансионе все места заняты, даже под нарами и то тесно. Но тебе найдем уголок.
Тут и он, и другие разглядели одежду Грядкина.
– Ого! Ишь ты каков! Поворотись, сынку! – заговорил человечек, за рукав поворачивая Грядкина. Остальные смотрели на это с нар, похохатывали.
– Да, явно не семечки воровал! – воскликнул кто-то.
– А может, ты чиновник? – спросил другой.
– Да ну, их не сажают… – тут же ответил ему третий голос.
– Да ты поди банк взял, а нам лапшу вешаешь – мошенник, мошенник… – усмехаясь, сказал толстенький человечек. Тут он посмотрел на Грядкина и понял, что новичок едва стоит на ногах.
– Эй, Копченый, – обратился к кому-то толстенький человечек. – Дай ему хлеба. У тебя же всегда есть…
Грядкину и правда дали кусок оставшегося еще от обеда хлеба. Грядкин вдруг почувствовал, что проголодался: да и то – ел-то только утром. Хлеб был хороший, городской. Он отломил кусочек и стал потихоньку его жевать. «Ну что ж, – подумал Грядкин. – И здесь люди живут»…
Уже через пару дней он привык к камере так, что воля казалась ему сном. В крошечной камере он был пятым. Потом к ним добавили еще шестого, так что спать на нарах приходилось лежа на боку. Из сокамерников двое были молодыми парнями, первый раз залетевшими за решетку еще в юности и с тех пор ходившие в тюрьму, как на работу. Один поколотил кого-то по пьянке и теперь все гадал – останется ли этот побитый бедолага жив? Разница в этой лотерее составляла пять лет. Толстенький кругленький человечек оказался важной персоной и его отпустили уже на третьи грядкинские сутки. Зато подсадили сразу двоих – они были наркоманами и первые двое суток выли, кричали, бились головой в дверь и лезли на стены.
Если бы не наркоманы, в камере целыми днями стояла бы полная тишина. Люди молчали – у каждого была своя беда, никто не хотел чужого груза на свою измученную душу. Самыми тяжелыми днями были выходные – никого не вызывали на допрос, так что даже таких событий в эти дни не было. Выходные в камере звали «мертвыми» днями. Где-то было радио, но слышно его было лишь если играли скрипки, да еще доносился иногда сигнал точного времени. Часов при этом ни у кого не было. Обитатели камеры, ориентируясь на это «начало шестого сигнала», пытались высчитывать время, но скоро сбивались, а потом и вовсе махнули рукой.
После этой, первой, было много других камер – Грядкина возили из одного города в другой, по следам его «гастролей». В каждом городе он сидел под следствием, в каждом городе ждал суда. Еще тот толстенький человечек в самой первой камере пояснил ему доброту российского уголовного кодекса.
– Это ты в Америке получил бы девяносто лет… – сказал он. – А у нас больший срок поглощает меньшие, так что отделаешься легко!
Грядкин и сам знал про это – все же в прокуратуре работал. Но и шесть лет, «корячившиеся» ему, пугали его, казались громадным сроком. При этом он совершенно не думал о том, о чем, казалось, должен бы думать целыми днями: об Ирине, о том, как все у них сложилось и почему, о том, дождется ли она его. Мысли эти были заперты где-то в железном ящике сознания на большой замок. Иногда у него были лихорадочные приступы: ему казалось, что надо только подумать, и он сумеет обмануть всех – судью, прокурора, государство. Он придумывал какие-то уловки, готовил речи на последних клочках бумаги, составлял вопросы, разыгрывал в голове целые спектакли, на которых умело ставил в тупик и судью, и прокурора. Однако в жизни из этих спектаклей не получалось ничего: судьи говорил, что вопросы не существенны и к делу не относятся, прокуроры откровенно зевали, смотрели на часы. Грядкин понял, что участь его предопределена. Именно так и думал – участь предопределена (всплыло из какой-то читанной давным-давно книжки). Он говорил себе, что раз так, надо успокоиться и впасть в спячку, в анабиоз, переждать эти месяцы, годы. Иногда это удавалось. Но иногда на Грядкина накатывало: он снова начинал придумывать каверзные вопросы судье, просил встречи с адвокатом.