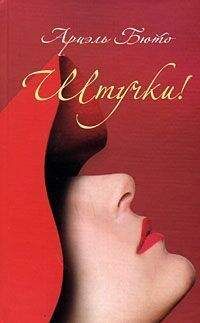Токио, 4 января 1987
Моя дорогая дочь! Как твое здоровье?
Благодарю тебя за деньги, которые ты нам прислала, это было тем более неожиданно, что после концерта в Токио ты написала ужасные вещи. Но теперь все забыто. Мы с твоим отцом верим, что ты обеспечишь содержание нам и малышу, как и обещала… Теперь нам не нужна помощь мадам Фужероль, да я и не думаю, что мы могли бы долго рассчитывать на ее поддержку. Она не проявляет к твоему брату того интереса, какой питала к тебе. Полагаю, она вообще не любит мальчиков, говорит со мной лишь о тебе, а деньги во время моей беременности давала с одной целью — возобновить отношения с тобой. Не будь к ней слишком сурова, она и впрямь страдает из-за того, что не сумела внушить тебе любовь.
Когда мы прочли твое письмо, отец предложил прервать все отношения с этой женщиной. Он считает, что благодаря тебе мы можем себе это позволить, я же отвечаю, что без Виолетты Фужероль ты никогда не получила бы ту чудесную профессию, которая позволяет тебе сегодня помогать нам.
Я понимаю нежелание твоего мужа заводить детей, пока вы концертируете. Никогда не знаешь, как повернется жизнь, используйте молодые годы, чтобы скопить как можно больше денег. Быть по-настоящему свободным — значит быть всегда сытым и иметь крышу над головой.
Твой отец и твой младший брат — ему нет и трех месяцев, а у него уже появился первый зуб! — думают о тебе и шлют нежный привет.
Суми * * *
Токио, 4 января 1987
Моя дорогая Иза!
Итак, если я все правильно поняла, ты не хочешь, чтобы младший брат разделил с тобой мою привязанность? Ты и вообразить не можешь, как растрогала и утешила меня, ибо после того, как ты добилась столь невероятного успеха, я стала ужасно одинокой. Не проходило и дня, чтобы думала о тебе, моя дорогая дочь. Ты знаешь, с каким неослабевающим интересом я слежу за твоей карьерой, и меня очень огорчили рецензии на последний концерт в зале Плейель. Не понимаю, как можно было не упомянуть в статьях твое имя — в вашем дуэте все держится именно на тебе. Муж крадет твой талант, малышка Иза! Удача, что у вас нет детей, — ты легко покинешь этого человека, как только поймешь, насколько корыстна его любовь.
Кстати, господин Морияма из Токийской филармонии был крайне разочарован, когда твой муж — от твоего имени — сообщил, что ты не станешь играть «Четвертый концерт» Бетховена. Не буду ничего от тебя скрывать, мне известно, что он пытался занять твое место… Но ты, конечно, уже все знаешь?
Доставь мне удовольствие — пришли одну из своих последних фотографий. Пока я довольствуюсь рекламными постерами твоей звукозаписывающей компании — разрезаю пополам, чтобы не смотреть на лицо твоего мужа у себя в спальне!
И последняя просьба к тебе — напиши мне коротенькое письмецо, чтобы я уверилась, что между нами не осталось недопонимания и я для тебя все та же любимая мама Виолетта.
Береги себя, дорогая дочь, и вспоминай иногда твою несчастную одинокую мамочку. Нежно тебя целую.
Мама Виолетта
P. S. Меня утешает твое решение насчет брата. Это толстый заурядный ребенок, ни в чем не похожий на тебя в этом возрасте.
— Вот оно, счастье, — чистая квартира! — радуется Эрик.
— Дешевле вышло бы нанять прислугу! — вздыхает сидящая на коробке Хисако.
История повторяется в пятый раз: Эрик начинает чувствовать отвращение к выцветшим обоям и облупившейся краске, к захватанным пальцами выключателям, к грязным окнам, к известковому налету на дне ванны… и они принимают радикальное решение — меняют квартиру на большую, где «следы жизнедеятельности» будут незаметны гораздо дольше.
Шесть лет назад они жили в крошечной студии на Монмартре, а теперь вот въехали в пятую по счету квартиру. Им случалось слегка нарушить границы Холма — одно окно квартиры № 3 выходило на бульвар Клиши, — но они никогда не покидали этот самый оживленный парижский квартал.
Новое убежище расположено на улице Восточной Армии. Сто тридцать квадратных метров с балконом на последнем этаже дома в стиле ар нуво, с неподражаемым видом на крыши, купола и колокольни столицы. Нашел новое жилье Эрик, он яростно торговался о цене с хозяином и ужасно этим гордится.
— Зачем нам такая огромная квартира? — недоумевает Хисако.
— В Париже жить, не натыкаясь друг на друга, верх роскоши! — восклицает Эрик.
А ведь в самом начале теснота их не смущала. Хисако всегда предпочитала домик своих родителей просторной вилле Виолетты Фужероль.
Четыре спальни и ни одного ребенка. Белые стены, светлый паркет, запах чистоты. Хисако бродит из одной комнаты в другую на неосвоенной пока территории. Рояли все еще зачехлены, коробки не открыты. Целая жизнь, упакованная чужими руками, возникает перед ними в неожиданных формах и сочетаниях. Находятся вещи, которые они считали безвозвратно потерянными, другие, оставленные в прежней квартире на самом виду — чтобы никуда не делись, — теряются. Разбирать коробки наугад — все равно что разворачивать рождественские подарки.
— Может, откроем вот эту?
— Но я на ней сижу!
— Именно ее! Тогда ты поднимешься и поможешь мне…
Эрик срывает скотч, вываливает содержимое на пол и темнеет лицом.
— Это твое. Убери сама куда найдешь нужным!
— Моя одежда?
— Нет. Твои ноты.
— Что значит — мои ноты? Все мое — твое, и наоборот, разве нет?
Эрик настаивает:
— Твои ноты. Сонаты Шуберта, «Карнавал» Шумана, «Полонезы» Шопена…
— Не обязательно было швырять их на пол!
— А вот это — ударный номер твоей программы! — Эрик бросает жене в лицо партитуру «Четвертого концерта» Бетховена. Работаешь втихаря, когда меня нет дома, угадал?
— Прекрати! Мы же с тобой об этом говорили…
— Ты нечестна, Хисако! Согласилась играть со мной дуэтом, потому что у тебя не было другого выхода, но мечтаешь об одном — сделать карьеру солистки.
— Ты несправедлив! Я никогда не играла одна!
— Слышала бы ты, как ты это сказала! Как будто это главное огорчение твоей жизни! Как будто я чудовище, как будто не даю тебе жить и дышать самостоятельно! Откуда такая неблагодарность?
Неблагодарность! Слово звенит в ушах, напоминает об упреке из прошлого. Когда-то Виолетта Фужероль тоже укоряла ее за неблагодарность. Должно быть, она и впрямь такая, если все ей об этом говорят. Но что плохого в том, что она не рассыпается в благодарностях за вещи, о которых не просила?
Пока Хисако решала, как ей реагировать, Эрик ушел, хлопнув дверью. Последние коробки доставили два часа назад, а они уже успели поссориться. Хисако собирает ноты, прижимает их к груди, как щит. Да, она не ограничивается половиной работы и не ждет, пока Эрик дополнит картину до целого! Просто теперь ей приходится таиться — так, словно она его обманывает. Раньше у нее была отговорка — занятия с профессором Монброном. Старый учитель хотел, чтобы она играла сонаты Шуберта и Бетховена, но, когда он умер, Хисако поняла, какое облегчение испытал Эрик. Монброн был Хисако опорой, он осуждал бывшего ученика за тщеславие, за упорство, с которым тот отвергал все, что в игре Хисако и ее личности принадлежало ей одной и не растворялось в дуэте Берней. Но Монброна больше нет, и Хисако оказалась в полной власти мужа. Любящего, всеведущего, заботливого. Мужа, который не только справляется с собственными проблемами, но и облегчает жене каждодневную жизнь. Мужа, который обращается с ней как с принцессой, осыпает дорогими подарками, селит во все лучших квартирах.
Вездесущность этого мужа подавляет самостоятельность Хисако, изолирует ее от внешнего мира.
Этот муж отказывает ей в счастье материнства, потому что он патологически ревнив и опасается за их карьеру.
Хисако не мыслит себе жизни без этого мужа.
Что может быть чище любви, ни с кем не желающей делить любимого человека? Успех дуэта делает Эрика и Хисако избранными, — значит, нужно отдать ему все силы и всю страсть.
Без Эрика Хисако была бы одной из многих, никто не гарантировал бы ей ангажемент, запись на студии, достойный заработок. Хисако помнит, чем вынуждена была заниматься после возвращения из Японии, пока не вышла замуж за Эрика. Она аккомпанировала «балетным» на пианино, которое годилось разве что на дрова, отбивала такт, разбивая в кровь пальцы, чтобы перекрыть громоподобный голос бывшей этуали, относившейся к ней как к мебели. Впрочем, к своим маленьким ученицам — Хисако они напоминали эльфов — эта тетка относилась еще хуже — как надзирательница в концлагере. Старшим на занятиях аккомпанировала пианистка с редкими жирными волосами. Шестидесятилетняя дама (она была еще и секретаршей в деканате) всегда носила на груди крестильный медальон, хотя он явно не слишком помог ей в жизни. А она ведь тоже училась в консерватории, выигрывала конкурсы и мечтала погреться в лучах славы… а закончила аккомпаниаторшей с почасовой, как у домашней прислуги, оплатой.