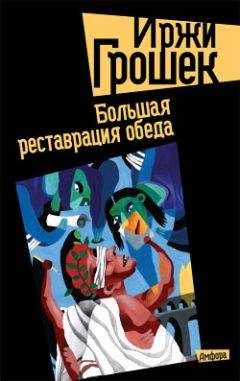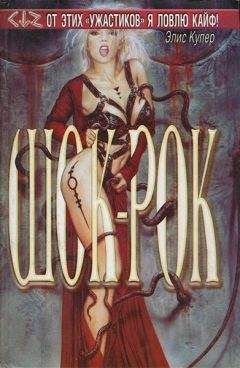— Зачем? — возразил Ломов. — Не начнут. Милиция видит, кто в какой шапке ходит.
Все так и завалились в смехе: обкомовские шапки от простонародных отличались существенно, и найти таких в открытой продаже было нельзя. Тем не менее, Ломов обиделся:
— Совсем нас за дураков считают.
Слово «канализировать» в лексиконе Ломова было новым, и потому даже мудрый Коржов не сразу его понял.
— Что ты, Пал Палыч сказал? — насторожился он.
— Надо канализировать, — повторил Ломов. — Я специально выезжал в Москву за опытом. Там, где встречи с Никифором Сергеевичем уже проходили, демагогический элемент заранее и по-тихому канализировали…
— Пусть этим коммунхоз занимается, — подал голос кто-то из членов комиссии. — Канализация — их обязанность.
— Я говорю о социальном демагогическом элементе общества, — сказал Ломов. — Его наличие может сорвать народное ликование и пустить его по стезе буйствующего анархизма. Чтобы митинг не перерос в беспорядки…
— Это решайте вы сами, — отрезал Коржов, — у нас заботы иные.
Я понял: брать на себя ответственность за сферу деяний Ломова Идеолог не хотел. Одно дело — бить словом по мозгам, другое — дубинкой по кумполу.
Ломов посопел недовольно и умолк. Так он и сидел до конца работы комиссии, глядя в одну точку на стене и не моргая, как удав.
Постепенно мы одолели многие трудности и добрались до дверей особняка, в котором должен был состояться торжественный прием в честь Высокого Гостя.
— Первый секретарь встречает товарища Хрящева у входа в палисадник, — продолжал импровизировать Коржов. — Говорит: «Здравствуйте, дорогой Никифор Сергеевич».
Приобретенный мною за вечер опыт государственного мышления, видимо, еще ничего не стоил.
— И «здравствуйте» тоже писать? — спросил я.
— Что значит «тоже»? Обязательно! Я уже объяснял: Первому думать будет некогда. Он на виду у истории и должен все говорить с ходу. Значит, сейчас надо все за него продумать до мелочей: где встать, что сказать, как обнять, как протянуть руку…
Мое наивное убеждение в том, что человек должен думать и на виду у истории, сразу померкло и скукожилось. Оказывается за вождей даже такие мелочи должны обдумать другие. А раз так, то именно нам надлежало предугадать и предупредить любую оплошность Первого. Не предупредим промаха — нам ошибки никогда не простят. Отвечать даже за мелкие его промашки будем мы, лица второстепенные.
— Как бы не вышло накладки, — сказал я, готовясь подстелить соломку Первому у невидимой снаружи кочки. — Первый говорит «здравствуйте», хотя до того почти весь день они проведут вместе.
— Товарищ Хрящев к тому моменту уже побывает в отведенной ему резиденции, — пояснил ход своих рассуждений Коржов. — Приведет себя в порядок. Сменит костюм. На это уйдет час-полтора. Не может же Первый встречать его молча. Это будет невежливо и аполитично. Вот он и скажет: «Здравствуйте». И пригласит пообедать.
— Я думаю, — высказался Власюк, — обед надо рассматривать как дело политическое, без намеков на гастрономию. Поэтому просить товарища Хрящева пообедать надо не казенно, а по народному. Например, так: «Отведайте, дорогой Никифор Сергеевич, наши хлеб-соль». Или так: «Просим вас, дорогой Никифор Сергеевич, откушать дары нашего края»…
— Примем откушать, — утвердил Коржов. — И идем дальше.
— Затем, — продолжал импровизировать Власюк, — все проходят в зал, садятся за столы.
— Постой, туда соберутся люди на обычную жратву или на политическое мероприятие? — Коржов явно ревновал активность Власюка и решил его немного повозить носом по столу. — Пиши, — сказал он мне. — Никифор Сергеевич проходит в зал. Все встречают его бурными аплодисментами. Звучат возгласы: «Да здравствует наш дорогой Никифор Сергеевич!» Только после этого приглашенные могут проследовать к столам.
— Как будем рассаживать? — задал я вопрос, входя в роль придворного церемониймейстера.
— Что скажешь? — спросил Коржов Власюка. Сам он наверняка знал порядок усадки гостей по ранжиру в торжественных случаях, но решил, что все же лучше отдать инициативу другому, чтобы иметь возможность поправить его.
— Место товарища Хрящева, — сказал Власюк, — во главе стола. Слева садится Первый…
— Справа, — поправил Коржов. Он был явно доволен промахом Власюка. — Так будет уважительней. Слева посадим советскую власть. — И пояснил, будто мы без него не поняли. — Председателя облисполкома…
— Слово будет произноситься? — спросил я.
Коржов посмотрел на меня так, будто я только что рухнул с потолка.
— Что за вопрос? Обязательно. И не одно. Хотя мероприятие с виду гастрономическое, процесс утоления жажды вызовет необходимость слов. Когда в груди становится тесно от горячих чувств любви и благодарности партии, молчать люди не станут. Потому надо не только небольшую речь продумать, но и тосты, которые будут соответствовать духу и настроению. Да, и еще нужно подготовить Первому список всего, что он должен иметь при себе.
— Как это? — удивился я, должно быть, окончательно роняя себя в глазах Идеолога.
— А так. Например, очки. Конечно, он их носит с собой. Но вдруг забудет? Значит, про запас вторую пару кто-то должен иметь при себе. Без очков Первый и слова не скажет…
— Во даем, — съязвил я опрометчиво. — Без очков уже и говорить не решаемся.
— Не беспокойся, — зловеще усмехнулся Коржов. — Если что в нашем либретто окажется не так, Первый прочуханку нам всем устроит по всему словарю Даля с дополнительными выражениями. И без очков. Понял?
Именно в тот момент открылась дверь, и в проеме показалась голова Зернова.
— Николай Семенович, — сказал он свистящим шепотом. — Разрешите моему заму выйти. На несколько минут.
— Выйди, — дал увольнительную Коржов. — Кто-нибудь другой попишет.
Когда дверь прикрылась и мы остались в коридоре вдвоем. Главный, приняв деловой вид, сказал:
— Дуй в буфет по-быстрому. Там сосиски дают.
Я благодарно кивнул и взял низкий старт для рывка по обкомовскому коридору, устеленному коврами. Хорошие сосиски с минимальным содержанием крахмала и сои по счастливому случаю в те времена можно было достать только в нашем Большом доме. Да и то не всегда.
Как ни странно, но честность и глупость у нас давно расцениваются людьми по одной таксе. Нередко случается, что скрытный глупак в жизни добивается успехов больших, чем человек умный, но безнадежно честный и откровенный.
В деревне Торчки, в которой выросла мать моя Варвара Ивановна, проживал дед Пахом Григорьич Удодов. Казалось, что по данным своего происхождения для советской власти был он человеком весьма подходящим — в прошлом безлошадный бедняк, или, как тогда у нас говорили: голь перекатная. Ко всему руки деда обладали огромной практической пригодностью. Он и наличник на окно нового дома вырезать мог с небывалым узором, и колесо для брички сработать. Такое, что потом ходило без дребезга по разбитым сельским дорогам с веселым кузнечным пристуком.
Умел Пахом запаять кастрюлю, склепать металлическими заклепками битую фаянсовую тарелку, так что из нее еще десять лет можно было щи хлебать.
Биографию деду портил один существенный недостаток. Был он к несчастью наделен не в меру великой честностью, чем-то походившей на религиозный фанатизм.
Подумайте, станет ли дурак народной власти укоры делать?
А дед Пахом лично самому председателю колхоза резал в глаза:
— Ну и пьянь ты, Василий Лукич! С таким управителем коммунизьм можно только из пустых полбутылок строить! Все свое пропил, таперя обчественное добиваешь.
И такое говорилось не где-то один на один, за запертой дверью, а на общем собрании, громко, при всем честном народе.
Теперь еще раз подумайте и скажите: стерпит ли уважающий свой авторитет и имеющий власть председатель или расценит выступление как демагогию и злостный подрыв всех основ, на которых социалистический государственный порядок зиждется и процветает?
Потому сколько председателей в колхозе у нас перебывало, столько они и шпыняли деда Пахома по любому поводу, а то и без повода, лишь бы порядок управления от его коварных происков оградить.
Дошло до того, что многие сельчане, кому плохонькая, но спокойная жизнь была дороже распрекрасной, но жгущей правды, стали сторониться деда, избегали его как чумного.
Кончилось тем, что Пахома Григорьича Удодова усадили. Культурненько. Без шума, но всерьез и надолго.
Воскресным днем, пребывая в райцентре, дед увидел плакат, где на фоне небоскребов стоял безработный буржуазного мира. На нем был черный костюм, шляпа и табличка на груди: «Согласен на любую работу». Постоял дед Пахом возле, посмотрел и заметил в сердцах:
— Вот сучий потрох! Пошел бы ты, дурак, к нам в колхоз, мигом шляпу бы позабыл! Жельтмен хренов!