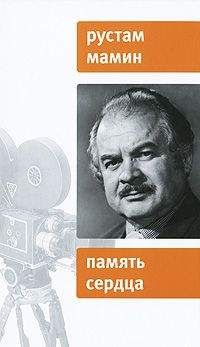Из семьи Кац уехали не все. Младший из подростков, ровесник Нестора, остался. В семье Исаака считали философом, лишённым деловых качеств. Худой, кадыкастый, он держал руки в карманах, перебирая ими, точно прятал там маленького зверька.
«Отче-его, всё устроено та-ак, а не иначе? — дёргал он в детстве за рукав отца, ероша пятернёй густые волосы. — И куда все де-еваются, когда уми-ирают?»
Нервничая, он слегка заикался.
Авраам отмахивался. Но Исаак был упрям. И его сводили к раввину. «Далеко пойдет, − вынес тот вердикт. — Если раньше не лишится рассудка». С тех пор отвечая на приветствие «Как дела?», он отделывался коротким: «С ума не сошёл». Исаак рано оставил игрушки, его не привлекала детская возня, большую часть времени он проводил со взрослыми за столом, до которого не доставал с табуретки, и был вынужден высоко задирать локти, упиравшиеся лишь в край, а ладонями со скрещенными пальцами обхватывать затылок. Так он замирал, прислушиваясь к разговорам, из которых выносил одному ему ведомую правду, не вставляя ни слова до тех пор, пока его не спросят. Но тогда говорил так разумно, что диву давались.
− Далеко пойдёт! − раздувался от гордости Авраам.
− Далеко! − эхом повторяла Сара.
Подрастая, он участвовал в семейных советах, и все прислушивались к нему. Он мечтал пойти в университет, изучать естественные науки и получить степень доктора философии. Но сложилось по-другому. Исаак разделил с Нестором обязанности, присматривая за квартирами. Ему это было противно. «Жертвоприношение Исаака, − скривился он, когда выбор пал на него. — Золотому тельцу». И Нестора, изнутри видя историю его выдвижения, зная, что за его спиной стоят не собственные таланты, а влияние семьи Кац, он недолюбливал. «Вам домоу-управ лапшу вешает, а вы ве-ерите, — презрительно хмыкал он, когда заходила речь о Несторе. — А куда деваться? Чтобы выжить, надо приспосабливаться, принимая всё как есть». Исаака Кац считали насмешливым и злым, и только Молчаливая знала, что прячется за его иронией.
− Люди — дрянь, − говорил он, когда они холодной лунной ночью гуляли по набережной. − Нужно быть рыбой, холодной и скользкой, чтобы не запутаться в слизких водорослях их отношений, плыть и плыть к своей цели. Хочешь быть рыбой? − Он размахивал руками, вынув их в темноте из карманов, точно больше не стеснялся больших ладоней. От смущения Молчаливая чихнула. Она уже растеряла всех ухажеров и бубенцом прокажённого носила: «Гордячка». Она жадно слушала Исаака, который казался ей необыкновенным.
− Но люди такие бедные, такие несчастные, − зардевшись, возразила она. — Странности и чудачества — не от хорошей жизни…
− Чудачества? − Исаак сунул в рот соломинку и медленно её перекатывал, точно выпускал через неё слова. − Что-то я не слышал, чтобы начальнику фигу показали. Или моему отцу. Завидуют! А должны ненавидеть. А за океаном? Только говорят по-другому. Нет, люди даже безумием схожи.
− А как же ты с ними говорил? — поднявшись на цыпочки, поправила она ему шарф. — Язык выучил?
− Выучил, только с ними говорить — будто с телевизором. Нет больше русских, немцев, испанцев, есть потребитель, говорящий по-русски, по-немецки, по-испански. Вот оно, братство человеческое, новый Вавилон!
− И башню построят?
− А зачем? Боги сами с небес спустились, в телевизоре-то удобнее. Вот ты в церковь ходишь, а с Христом что сделали? Он им про верблюда в угольном ушке, а они кресты золотят. Выходит, мы, евреи, его один раз распяли, а вы каждый день распинаете… А главное, мира не сдвинуть вот на столько, − он отметил ногтем мизинец и, выплюнув соломинку, долго смотрел, как хихикали на углу близняшки, кокетничая с мужчинами.
Братья Молчаливой едва уживались, но против Исаака Кац выступили единым фронтом.
− Своих мало? — без обиняков начал Архип. — Оставь сестру!
− Денег много, − оскалился Антип. — Возьми вон близняшек с угла.
− Денег много — подмигнул Исаак Кац. — Могу поделиться.
− Мы не продаёмся!
− А вас и не покупают.
И, сплюнув, отошёл, размахивая руками, точно срывал невидимые яблоки, которые швырял оземь.
Угрюмый седой мужчина из третьего подъезда, осторожно составляя по ступенькам инвалидную коляску, вывозил на прогулку глухонемого сына. Тот уставился перед собой, сосредоточившись на одной точке, которая перемещалась вместе с поворотами и наклонами коляски. Его небритое лицо оставалось непроницаемым. Он напомнил Молчаливой насекомое, застывшее в углу. Его кормят, поят, одевают, переносят на постель, а перед сном, сажая на горшок, обтирают мокрым полотенцем. Зачем он живет? Как проникнуть в его мысли?
Молчаливая смотрела на него из окна, выслушивая грозные наставления братьев, и ей казалось, что её против воли везут куда-то в инвалидной коляске. И такие же чувства, глядя на инвалида, испытывал живший в соседнем подъезде в квартире Кац, Ираклий Голубень, кормивший вечерами аквариумных рыбок, а всё остальное время проводивший за столом, бесцельно водя по бумаге карандашом до тех пор, пока не прочерчивал дыру − тогда он брал новый лист, так что кипа белых листов слева от него перекочёвывала направо стопкой грязных. К этому времени он стал искушён в литературе настолько, чтобы постичь истину, которой другие владеют с рождения и которую знает любой младший редактор — за теми, кто на слуху, стоит мощный издательский интернационал, преследующий свои интересы и замалчивающий всё, выходящее за их пределы. Люди искусства напоминали ему детей, играющих в царя-горы, сталкивающих друг друга с ледяной вершины, пуская в ход любые приемы, чтобы на мгновенье застыть наверху. Он видел, как ещё вчера никому не известные имена сегодня в одночасье становились у всех на слуху, чтобы завтра уйти в небытие, и как расхваливали книги, которые, прочитав, тотчас забудут. «А при чём здесь искусство? — ерошил он пятернёй свалявшиеся волосы, ломая очередной карандаш. — И при чем здесь я?» «Не отчаивайся, − поддерживала его во сне Саша Чирина. — Когда-нибудь ты проснёшься знаменитым!» «В могиле?» − спрашивал он одними губами, так, чтобы она не услышала. А, проснувшись, долго лежал с закрытыми глазами, точно не хотел расставаться с призраками, чтобы вернуться в чужую, холодную квартиру с такими же холодными рыбками в углу, и думал, что знаменитыми просыпаются только в том случае, если знаменитыми засыпают, что путь к славе лежит по грязным, скрытым от глаз, тёмным коридорам, в которые попадают всегда с чёрного входа. Он честно писал о любви и страданиях, не покидая стола, как каторжный, переписывал фразу за фразой, чтобы выразить бесконечную сущность, таящуюся в человеке, а известность требовала иных талантов, и главного среди них − писать локтями. Старость, как смерть, у каждого своя, но всех уравнивает, делая похожими и сговорчивыми, обкрадывая, она оставляет одно-единственное чувство, которое объединяет, − тоску по утраченным иллюзиям, и потому старики на лавочке находят общий язык так же быстро, как дети в песочнице. Но Ираклий Голубень не склонил головы перед неумолимостью времени, оставаясь рабом своей непомерной гордыни, как и во дни относительной молодости, когда на исповеди затеял спор с о. Мануилом, позволяя себе иметь роскошь собственного мнения, которое не боялся высказывать, и когда развёлся с женой, не разделявшей его взглядов на искусство. «Одиночество? — храбрился он, когда ему выражали соболезнования, будто похоронившему всех близких. — Так оно в самой природе заложено. Как понять другого? Залезть в его черепную коробку? Прочитать мысли? А сам-то он их понимает? Может, там один бред? Может, и к лучшему, что чужая душа − потёмки?» Спускаясь в чулан, он излагал свои соображения Савелию Тяхту. «Какие потёмки? — качал тот головой. — Всё же как на ладони: нас окружают дети − отберут и фамилию не спросят, будешь ещё и виноват…» Но говорил Тяхт по-стариковски, не вкладывая в слова ни злобы, ни сожаления, думая при этом о своём. Перед ним опять и опять проходила вся жизнь, проведённая в доме, среди людей, прикованных к нему кандалами привычек. Савелий Тяхт уже стал посторонним, смотрел на мир, которому больше не принадлежал, на текущую мимо жизнь, в которой больше не участвовал, смотрел не вблизи, как раньше, а, будто ангел, с небес. Кроме однокашника с печальными глазами, окончившего дни в пыльном, щелистом сарае с перекрещивавшимися пучками света, у Савелия Тяхта всё чаще всплывал ещё один, живший на первом этаже в соседнем подъезде, с которым они дружили в начальных классах, вместе бегали на канал, оседлав каменных львов, прижимались к их холодным гривам, а на переменах, заливаясь смехом, сдували друг в друга пушистые одуванчики, так что весь коридор покрывали белые парашютики. Но потом жизнь их развела, и Савелий стал избегать бывшего приятеля. После школы тот быстро опустился, превратившись в горького пьяницу с глазами кролика, который даже температуру на улице измерял градусами алкоголя. По утрам, высунувшись в форточку, он по-собачьи тянул носом воздух и кричал: «Сухое белое!», если погода стояла ясная, зимняя, но не слишком холодная, и — «Красное полусухое!», если было столько же выше нуля, вставало багровое солнце, и накрапывал дождь. Около двадцати градусов шёл «Яичный ликёр!», с тридцати — «Горькая настойка!», потом — «Водка!» или «Ром!» От пропойцы, вечно стрелявшего взаймы, все отворачивались, а он, казалось, смирившись с судьбой, терпеливо сносил всеобщее презрение, отвечая вымученной, страдальческой улыбкой. А однажды — Тяхт уже работал тогда управдомом и присутствовал при этом по долгу службы — взломав к нему дверь, засвидетельствовали смерть: допившись до белой горячки, он вскрыл себе вены. У Тяхта сжалось сердце, он увидел, как в грязной комнате с опрокинутым войском пустых бутылок, бросавших в углу зелёные блики, вдруг остановились старинные настенные часы, отмерявшие жизнь хозяина, и ему захотелось перевести стрелки назад, чтобы опять, как в детстве, бегать босым по траве, рвать одуванчики и, указывая на озабоченные лица взрослых, надрывать от хохота живот. А теперь Савелий Тяхт отчётливо понимал, что правит не судьба, а случай, что человек — былинка на ветру, что над бездной все ходят по узкой, разболтанной плашке, и никто достаточно не силён, чтобы с неё не сорваться, и, повернись жизнь иначе, он вполне мог оказаться в захламлённой комнате на побуревших от крови простынях. Говорить с Тяхтом было, как с тенью, и, быстро прощаясь, Ираклий Голубень поднимался к себе. Изверившись донести правду с помощью слов, Ираклий взялся за кисть. Рисовать он не умел, но это обстоятельство его не смутило. «Что я сделаю для искусства? — стучал он зубами, лихорадочно нанося мазки на холст. — Успеть бы закончить хоть одну картину». Ираклий Голубень верил, что можно передать реальность случайным расположением цветных пятен, что рамы, какими бы дорогими ни были, запирают картины на ключ, что порядок быстро надоедает, а вечно созерцать можно только хаос. Любая картина − это зеркало, в котором художник отражает своё «я», так что любая картина − автопортрет. За извилистой радугой линий Ираклий Голубень поместил свои сны, фантазии, в грудившихся пятнах терялось его прошлое и проступало будущее. Вплетая в извивы краски свою судьбу, он верил, что каждый цвет является символом: красный означает силу, синий − истину, жёлтый − предательство. А если жизнь − это смешение символов, которые предстоит разгадать, значит, должен существовать и цвет, обозначающий будущее, надо только правильно развести краски. На своей картине сбоку, в тёмных тонах болотной умбры Ираклий поместил свои разговоры с Тяхтом за чаем с можжевеловым вареньем, добавив в палитру охры, изобразил свою детскую улыбку, которая не старела, а темперой на яичном желтке рассказал про ночное приключение, когда ему никто не открыл дверь, про зелёного человечка, который прячется где-то в доме, в подвале или на чердаке, насылая безмерную тоску, жирными пятнами отделал свои воспоминания о первой жене, смутившейся на суде, когда он спросил, что она сделала для искусства, а, надрезав мизинец и капнув в сурик крови, поведал о своей неразделённой любви к Саше Чирина. Ираклий Голубень работал кисточкой из овечьей шерсти, которую считал своим золотым руном. Отложив ее, он солил чёрный хлеб, отщипывая от краюхи, которую положил рядом, рассчитав, что, когда она закончится, закончится и картина, а, когда закончится картина, он умрёт. Ираклий обнищал настолько, что у него уже нечем было кормить аквариумных рыбок, но, промакивая краску хлебным мякишем, радовался, что прожил не зря, оставив на свете вместо ребёнка картину, на которой ему нужно было ещё изобразить себя, пишущим картину, на которой он был бы изображён, пишущим картину… «Не провалиться бы в эту бездну» − испуганно думал Ираклий Голубень, и у него кружилась голова.