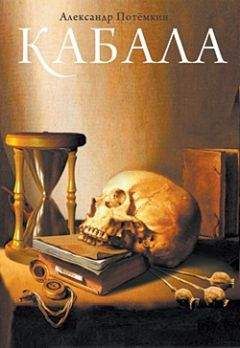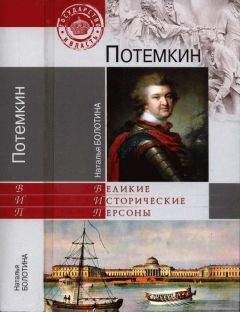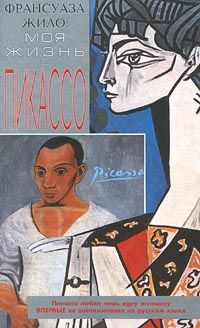— Ты мне пропаганду брось! С тебя в партийную кассу двести долларов помесячно положено. Где ты их наберешь, это твои проблемы. Денег не будет — не жить тебе, пятьдесят седьмой, в нормальных условиях, а погибать в сырости и голоде… Понял? Я спрашиваю, понял? Дурень, меня самого обложили…
— А ты нас, что ли?
— А как же… Так и получается! Не моя это голова… Приказ!
— Спускай в карцер, начальник, денег не будет. Регулярная твоя пятнашка тоже накроется…
— Не пугай, нашел чем стращать…Твой зеленый бисер я с другого зэка сдеру. Но твоя песня закончится через пару дней на безымянном погосте… Козел упрямый! — Неелов злобно сверкнул глазами и со всей силы захлопнул дверь.
Клопы не дадут мне помереть, кто же их вскармливать будет, усмехнувшись, успокоил я себя. От сырости и холода они прикроют меня своим брюшком, а от голода спасет меня великолепный порошок. Надо лишь дозу увеличить, вместо двух-трех необходимо четыре-пять ложек. А что это за партийную кассу они придумали? Начальник идейку подбросил? Непонятная злость от него охране передалась. Ведь раньше было все по уму. В отношениях порядок, уважение. Вот, вспоминаю, осторожный стук в дверь. Она открывается, и на пороге камеры появляется улыбчивая физиономия Неелова. «Как самочувствие, арестант?» — «Да жив пока, начальник». — «Давай-давай, держись. Могу чем помочь?» — «Принеси мне, пожалуйста, кусочек отварной свеклы величиной со спичечный коробок. Третий день запор, таблетки не помогают». — «Бедолага, после обеда обязательно доставлю». — «А у тебя какие проблемы, начальник? У меня жизнь известно что скотская, да и у тебя не сахарок. Без взаимопомощи тут никак. Чем подсобить?» — «Племянник у меня в Смоленске заканчивает срочную служить, есть ли возможность его в милицию определить? В ГИБДД? Там на постах хорошо заработать можно. Каждое проходящее транспортное средство, чтобы без обыска пост миновать, должно калым дать. С грузовика до двухсот долларов доходит… Знаешь, кто подсобить смог бы?» — «А не опасно? Все же взятки…» — «А где нынче безопасно? Смерть везде пристать может…» — «Есть у меня однокашник. Мать писала, что он нынче в главном милицейском штабе служит. Надо разузнать, сможет ли помочь. Принеси как-нибудь мобильник. Напрямую спрошу. Он мне не откажет». — «Э, брат, не все так просто. Нынче за так-сяк в милицию не попадешь. Здесь деликатные договоренности потребуются. Твой однокашник тебе близок?» — «Достаточно… Все школьные годы дружили». — «Смотри, а то мы можем и денег дать, но чтобы он точно на доходный пост попал. А то с чем и куда возвращаться после армии? На улицу? Без работы маяться? Или записаться к нам на службу, с вышки начинать, пропади она проклятая? А так капиталец собьет, магазин откроет, жизнь наладит. Есть большой смысл перебраться к ментам…»
За семь лет вспоминается немало таких вот приятельских бесед с прапорщиком. А сегодня вдруг эта сволочная агрессия… Словно подменили Неелова, впрочем, не только его одного, а весь персонал тюрьмы. Что наделал с ними новый начальник? Вот и протяжный звонок: отбой! Сейчас брошу на язычок ложечку этого самого и на бочок. Впереди еще пять лет… Пока, Петр Петрович. Во сне я явлюсь себе непременно кем-то совершенно другим. Ведь маковая головка, единственная радость моего существования, проделывает со мной настоящие чудеса… Едва в видениях я очистил спелый банан, как кто-то больно ударил меня по плечу и над самым ухом заорал:
— Подъем, пятьдесят седьмой!
Хотя бы во сне мне захотелось доесть банан, но чья-то могучая рука, напоминающая подъемный кран, подняла с кровати и бросила к двери.
— Хватит спать! Пошел в карцер!
Я было подумал крикнуть: “За что?”, — но получил удар подошвой сапога. Даже не совсем удар, так некоторые ногой давят клопа или тушат сигарету: упрямая, грязная подметка растерла лицо в кровь. Потом, видимо, били меня еще не раз, ведь когда после беспамятства я очнулся в темном сыром карцере, все тело в ссадинах и кровоподтеках гудело. Особенно ныл позвоночник.
Неожиданно, осматривая карцер, я увидел клопов, заполнивших нижнюю часть стены. Никто из них не позволял себе усаживаться на мои раны и пировать. Хотя крови было много. Они застыли в тревожном ожидании, наблюдая за моим болезненным состоянием. Милые существа. Захотелось поделиться с ними невзгодами, спросить, как все давеча происходило. Однако на пороге появились двое надзирателей. Их физиономии я никогда прежде не видел.
— Ты позволил себе отказать в деньгах для специального фонда нашему коллеге? Так?..
— Да, — выговорил я, — денег у меня нет.
— Повтори?
— Пустой я, ни копья…
— Ну, а если денег нет, то получай…
Два-три удара я еще чувствовал и даже, казалось, различал голоса:
— …Каждые два часа будем колошматить тебя, как отбивные на кухне…
— Бешбармак сделию, сволощ…
Потом я лишился сознания. Первое, что услышал, приходя в себя, были тяжелые капли дождя, молотившие асфальт у верхней части зарешеченного оконца карцера. “Жив, еще жив, будь она проклята, эта жизнь, — мелькнуло у меня в голове. — Залил бы дождь мой подвал. Эй, ветер, разбей оконце! Эй, дождь, направь стоки в мой карцер”, — прошептал я еле шевелящимися губами. Осмотрелся. Клопов стало больше. Они собирались в кучку, словно решили, что наступает время меня отпевать.
— Да нет, братцы, пока жив я, впрочем, если меня отмутузят еще несколько раз, — обратился я к ним, — то, конечно, окочурюсь. Но это даже к лучшему… Жаль только с вами расставаться. Древняя поговорка: “Старые недруги — лучшие друзья”. Воспоминания сближают.
Чтобы легче переносить боль, я, с трудом ворочая языком, съел две ложки замечательного продукта. «Есть ли маковая головка на том свете? Прекрасно было бы, я, да и многие другие немедленно заторопились бы в нужном направлении.
Пока ждал прихода опийной энергии, в карцер опять вошли двое помять ребра. Моя фигурка съежилась, прижалась к нарам. Я узнавал удары кулаков и ног, их смешки и ругань, но, пока был в сознании, не стонал, а лишь протяжно выл… Резкий звонок “Подъем!” привел меня в чувство. Глаза, заплывшие синяками, не открывались, шея, покрытая ссадинами, не двигалась, искалеченные конечности не поднимались, лишь пальцы с трудом шевелились, да сознание восстанавливало свои функции. Что они так озверели? — первое, что пришло мне на ум. — С таким остервенением бьют, что, кажется, наступает конец света. Меня-то колошматить за что? За что превращать в фарш? Сижу смирно, режим не нарушаю, корпусному и замначу регулярно деньжат отсылаю, по инстанции жалобы не пишу, к воровским идеям отношусь безразлично, как швейцарцы к Евросоюзу, не придерживаюсь и не порицаю. Со стороны посмотреть на Петра Петровича Парфенчикова — идеальный заключенный для спокойной службы, даже для чиновничьей карьеры. Понимаю, почему они меня пятьдесят седьмым назвали, еще бы иначе, объяснение железное, но как же такое рукопашное безумство объяснить, ума не приложу… В этот момент открывается карцер, и входит начальник режима по прозвищу Колыма.
— Привет, пятьдесят седьмой. Хочу, чтобы ты знал: ты мой! Понял?
— Н-е-т, — еле выговорил я.
— Объяснить?
— Д-а!
— Если дашь мне семьдесят голосов на выборах в Думу, то запрещу тебя по ночам беспокоить. Направлю в лазарет подлечиться… На неделю посажу на масло, на две недели на белый хлеб. Предоставлю внеочередное свидание с близкими или даже с бабенкой. Впрочем, знаю, что у тебя ее нет. Однако можешь поискать заочницу. Я дам список из личного архива. Там есть неплохие девки… Ха-ха-ха! Они годами мужиков не видят. Справишься? Ну, а теперь понял?
Я, видимо, долго соображал, о чем идет речь. Моя вынужденная пауза взорвала его поначалу деловой тон.
— Что молчишь, гнида? Если не дашь голосов, найдут тебя как-нибудь поутру окочурившимся в петле из собственных штанин. Причину смерти укажем — самоубийство. И тут же доставим в мертвецкую. А там крысы голодные, аппетит у них круче волчьего. До похорон в зэковской могиле, пока медкомиссия соберется, они от тебя одни кости оставят. Понял, гнида? Пятьдесят седьмой — мой номер. А у меня с тобой разговор короткий: или семьдесят голосов, или объеденный скелет на свалке. Выбирай! Да быстро, времени у меня нет!
— Писать родне?
— Сам мозгуй, кому адресовать…
— У меня руки еле шевелятся… Дайте ручку и бумагу…
— На, бери!
Колыма открыл свою папку. Спуститься на пол я был не в состоянии, поэтому пришлось упасть на него с диким стоном.
— Какая у вас партия? За кого голосовать? Что писать?
Видимо, я стал сбиваться, не понимая толком, что от меня требуется. А под конец вообще замолчал и в испуге закрыл глаза.
— Пятьдесят седьмой! Эй! Пиши! Эта партия, Эта! Открывай глаза, ублюдок! Пиши!
Напрягая последние силы, я начал выводить каракули: «Дорогие мои! Если вы хотите меня еще раз в жизни увидеть, если желаете мне здоровья, если в вашей душе сохранилась хоть малейшая жалость ко мне, прошу вас: отдайте голоса за Эту партию. Упросите соседей, моих учителей, одноклассников, армейских друзей, спартаковских болельщиков, с кем я каждую игру болел в “Лужниках”, всю родню — мне нужно семьдесят голосов! Эта партия спасет меня. Ваш Петр Парфенчиков». Колыма, наблюдавший за моим письмом, отобрал его у меня, прочел и грозно выкрикнул: